Левее правее: НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ
“НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ”
У р о к 5.
НАД, ПОД, ЛЕВЕЕ, ПРАВЕЕ, МЕЖДУ
Цели: учить устанавливать пространственные отношения: спереди – сзади, перед, между; продолжить формирование умения ориентироваться в пространстве; развивать речевые навыки, умение анализировать.
Ход урока
I. Организационный момент.
II. Устный счет.
1. З а д а н и е н а р а з в и т и е в н и м а н и я.
Учитель предлагает учащимся внимательно рассмотреть карточки и сравнить фигуры, изображенные на них.
Учащиеся сравнивают фигуры по цвету и дают характеристику местоположения данных фигур, используя слова «вверху», «внизу», «в центре».
2. И г р а «Построй домик».
Помогите Зайке собрать домик из данных деталей.
Строить – трудная задача.
Бедный зайка чуть не плачет:
Есть окно и даже крыша,
Только дом, увы, не вышел.
3. У п р а ж н е н и е «Доскажи словечко».
Две розы Маша сорвала,
В подарок маме принесла.
Сорви еще и подари
Ты мамочке не две, а … (три).
У куклы пять нарядных платьев,
Какое нынче надевать?
Есть у меня для куклы шерсть,
Свяжу – и платьев будет … (шесть).
III. Сообщение темы урока.
– Положите круг правее треугольника.
– Положите прямоугольник левее треугольника.
– Какая фигура находится «между» двумя другими. – Сегодня на уроке будем определять положение предметов, используя слова «над», «под», «между», «правее», «левее».
IV. Знакомство с новым материалом. Работа по учебнику (с. 9).
З а д а н и е № 1.
В задании в качестве характеристики местоположения предмета необходимо использовать соответствующие предлоги «над», «на», «под», обращая при этом внимание учащихся на их смысл.
З а д а н и е № 2.
Знакомые уже термины «слева» и «справа» заменяются терминами «левее» и «правее». Отличие этих понятий проявляется в том случае, когда описывается некоторое изменение местоположения. Фраза «отойди левее» нам понятна, а вот фраза «отойди слева» лишена смысла.
Ф и з к у л ь т м и н у т к а
Учащиеся выполняют упражнение.
Тишина стоит вокруг,
Вышли косари на луг.
Взмах косой туда-сюда
Делай «раз» и делай «два».
V. Продолжение работы по теме урока (с. 9).
9).
1. З а д а н и е № 3.
Термин «между» применяется для характеристики местоположения объектов, выстроенных в определенной последовательности. Если этого нет, то такая характеристика лишена смысла.
Р а б о т а в у ч е б н и к е (расстановка фишек):
2. И г р а «Расположи предметы в нужных местах».
Ф и з к у л ь т м и н у т к а
VI. Работа в рабочей тетради. Развитие моторики пальцев рук.
1. У п р а ж н е н и я.
Учитель предлагает детям выполнить следующие упражнения:
1) «Зайчик» – пальцы сжаты в кулачок. Ребенок выпрямляет и разводит в стороны указательный и средний пальцы. «Зайка» вытянул уши.2) «Кольцо» – пальцы сжаты в кулачок.
Ребенок выпрямляет большой и указательный пальцы, а затем их соединяет.
3) «Пальчики поздоровались» – ладони рук с поднятыми пальцами напротив друг друга.
Выполнение упражнения сопровождается чтением стихотворения:
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики.
(Дети сжимают пальцы в «замок».)
Мы с вами подружимся,
Маленькие пальчики.
(Дети разжимают пальцы.)
Раз, два, три, четыре, пять.
(Пальцы поочередно касаются друг друга,
начиная с мизинца.)
Начинай играть опять.
2. З а д а н и е.
Далее учащиеся выполняют узоры по образцу.
VII. Итог урока.
«Чем отличаются левые и правые либералы?» – Яндекс.Кью
Разберем каждый из терминов по отдельности, чтобы создать четкую картинку:
- Либерал – это тот, кто придерживается либеральной идеалогии, то есть принципов политической свободы индивида, равных стартовых условий для всех граждан и миниального участия государства в распределении материальных благ.
 В случае либерализма государства правит не для людей (For the people), а “людьми” (By the people). Таким образом, условный либерал – это самостоятельная единица политической и гражданской свободы.
В случае либерализма государства правит не для людей (For the people), а “людьми” (By the people). Таким образом, условный либерал – это самостоятельная единица политической и гражданской свободы.
Разделение на левых и правых крайне условно еще с появления термина. Термин появился во Франции, где в Национальном Собрании в период Революции справа и слева от центра сидели члены партий с диаметрально противоположной повесткой. Сейчас основная разница между правыми и левыми выражается в вопросах собственности и ее распределения.
- Правыми можно назвать условных консерваторов-капиталистов. Традиционно к данному течению относили идеи, подразумевавшие широкую степень индивидуализма в экономике, нерушимость частной собственности как принципа и жесткую систему социальной иерархии, приверженность традициям. К таким движениям, например, относятся Консервативная партия Британского парламента, Демократы в США, ЛДПР в России.
- Левые представляют более коммунитарное мировоззрение: их идеи часто сходятся на необходимости национализации частной собственности, создании равных для всех граждан условий, возможностей и позиций, снижении влияния государства на все сферы общества.
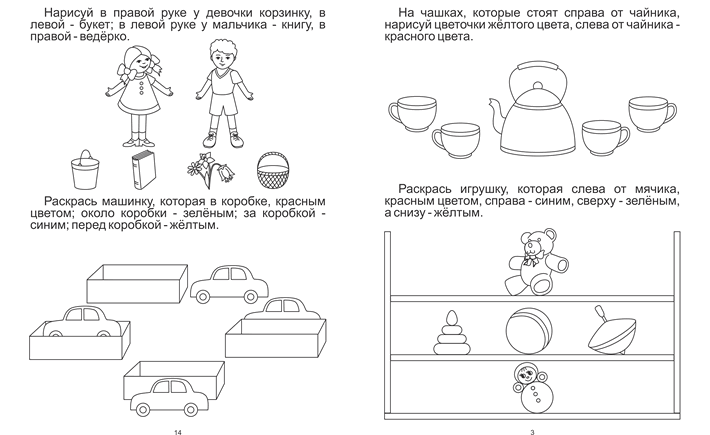
Таким образом, деление на левых и правых либералов в данном контексте будет подразумевать скорее те механизмы и модели, которые предлагает движение/партия/лидер в решении социально-политической повестки.
Левые либералы – ближе к социализму
Правые либералы – ближе к консерватизму
Сравнение условное, как и само деление.
Правые и левые — Журнальный зал
Перевод выполнен по изданию: Bobbio N. Destraesinistra. Ragioniesignificatidiunadistinzionepolitica. Roma: Donzellieditore, 1994. Редакция благодарит издательство «Donzelli» за разрешение публиковать перевод отрывков из книги Норберто Боббио. Все права сохранены.
I. Спорное различие
1. «Правые» и «левые» — два противопоставленных друг другу термина,
которые уже более двух веков привычно применяются для обозначения различий
между идеологиями и движениями, на которые подразделяется в высшей степени
конфликтный универсум политических мышления и действий.
Как мне часто доводилось говорить в отношении того,
что я называю «великими дихотомиями» (которые структурируют любую область
знания), пару противопоставленных терминов, таких, как «правые» и «левые»,
можно использовать с описательной, аксиологической или исторической целью: с
описательной, чтобы дать синтетическое представление о двух конфликтующих
сторонах; с оценочной, чтобы выразить положительное или отрицательное суждение
об одной или другой стороне; с исторической, чтобы обозначить переход от одной
фазы политической жизни нации к другой, причем историческое употребление, в
свою очередь, может быть описательным или оценочным.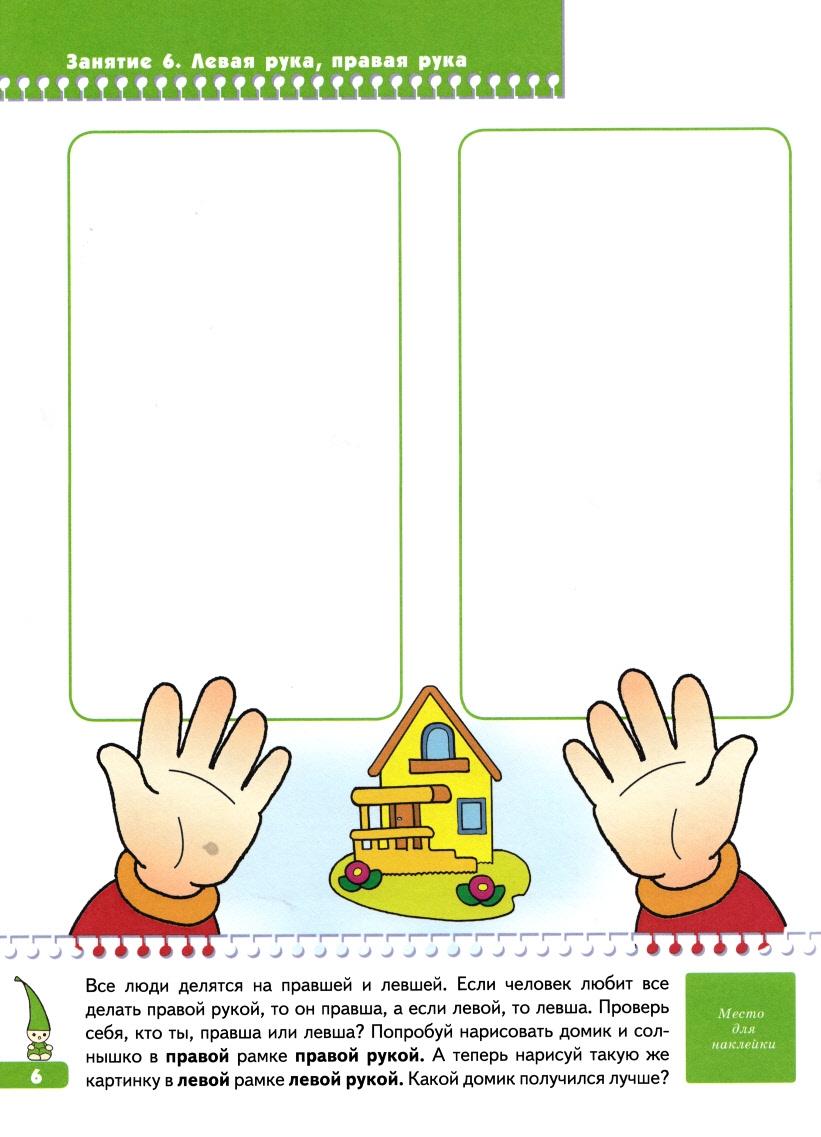
Противопоставление правых и левых воплощает типичный способ мышления бинарными оппозициями, чему приводились самые различные объяснения: психологические, социологические, исторические и даже биологические. Примеры такого мышления известны во всех областях знания. Нет такой дисциплины, в которой не преобладала бы какая-либо всеобъемлющая бинарная оппозиция, в социологии: общество-сообщество, в экономике: рынок-план, в праве: частное-государственное, в эстетике: классическое-романтическое, в философии: трансцендентное-имманентное. В сфере политики правые-левые — оппозиция не единственная, но встречающаяся повсеместно. […]
Нижеследующие размышления родились в результате
констатации того факта, что в последние несколько лет постоянно повторяют,
вплоть до того, что это превратилось уже в общее место, что различие между правыми
и левыми, которое в течение примерно двух веков, начиная с Французской
революции, служило для разделения политического универсума на две
противопоставленные друг другу части, уже отслужило свой век. Принято ссылаться
на Сартра, который, по видимости, одним из первых сказал, что правое и левое —
две пустые коробки. У этих терминов якобы больше не осталось ни эвристической,
ни классификационной ценности, тем более оценочной. Зачастую об этом говорится
как о чем-то досадном, об одной из тех многочисленных лингвистических ловушек,
в которые так часто попадаются политические споры. […]
Принято ссылаться
на Сартра, который, по видимости, одним из первых сказал, что правое и левое —
две пустые коробки. У этих терминов якобы больше не осталось ни эвристической,
ни классификационной ценности, тем более оценочной. Зачастую об этом говорится
как о чем-то досадном, об одной из тех многочисленных лингвистических ловушек,
в которые так часто попадаются политические споры. […]
8. […] Основная причина, по которой классическая диада
оказалась поставлена под сомнение, состоит в следующем. Два члена этой
оппозиции опираются друг на друга: там, где нет правого, больше нет и левого, и
наоборот. Иными словами, правое существует постольку, поскольку существует
левое, левое существует постольку, поскольку существует правое. Как следствие,
чтобы сделать разграничение нерелевантным, не обязательно демонстрировать его
неуместность (бесполезно продолжать разделять политический универсум согласно
идеологическому критерию, если идеологий больше нет), неполноту (недостаточно
разделить политическое поле на два полюса, если доподлинно известно, что
существует и третий, не важно, промежуточный или стоящий ступенью выше) и
анахроничность (на политическую арену вышли программы, проблемы, движения,
которых не существовало в то время, когда эта оппозиция возникла и когда она
еще удовлетворяла требованиям текущего момента).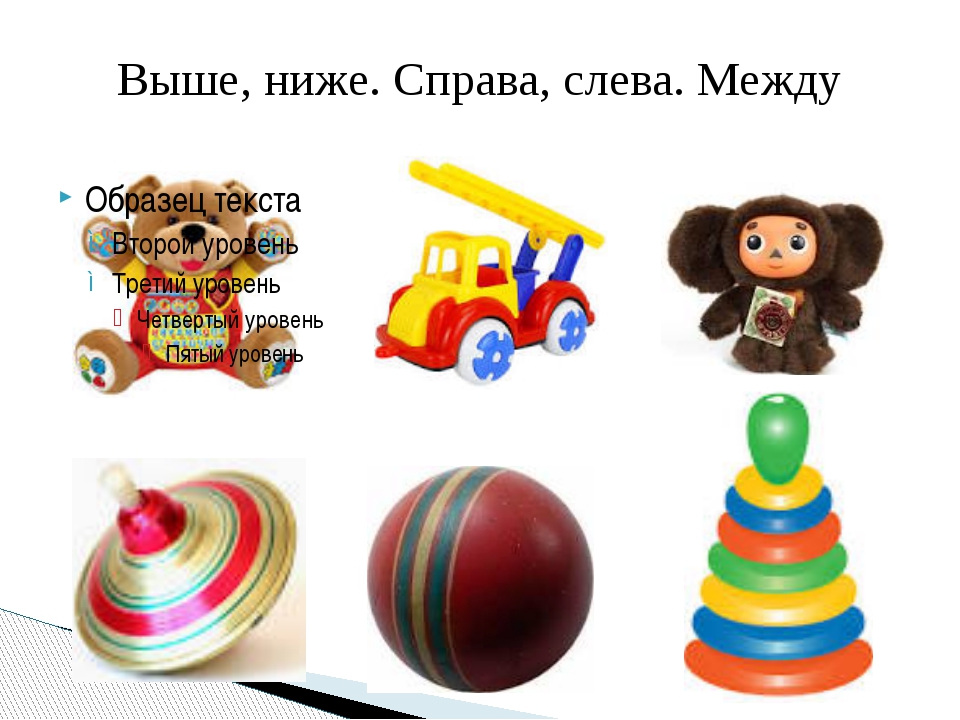
Не во всякой бинарной оппозиции оба члена обладают
одинаковой силой, к тому же не обязательно один из двух членов всегда сильнее
другого. Их относительная сила может меняться в зависимости от точки зрения и
критерия, согласно которому она измеряется. Существуют пары, в которых сильным
по преимуществу является один из терминов: в паре «война-мир» до сих пор
сильным членом оппозиции по преимуществу являлась «война», доказательством чему
служит тот факт, что «мир» традиционно определялся как «отсутствие войны», как
нечто, что наступает после войны («De jure belli ac pacis» Гроция, «Война и
мир» Толстого), тогда как в паре «порядок-беспорядок» сильным членом является
«порядок». В бинарной оппозиции «правое-левое», если ограничиваться
политическим языком, относительная сила двух терминов не заложена изначально (в
противоположность языку биологии и в более широком смысле — языку религии и
этики, где сильным членом является «правое»), но зависит от времени и
обстоятельств.
В подобной ситуации вполне объяснимо, что группы и
движения, которые, согласно традиционной и устоявшейся политической географии,
должны называть себя правыми, начали заявлять, что старинная оппозиция больше
не имеет смысла, морально устарела и политическая борьба требует перемещения
«по ту сторону» правого и левого, причем надо понимать, что эта
«потусторонность» подается не как синтез, который вбирает в себя обе
противоположности и тем самым легитимирует их, но как их полное отрицание и
опровержение.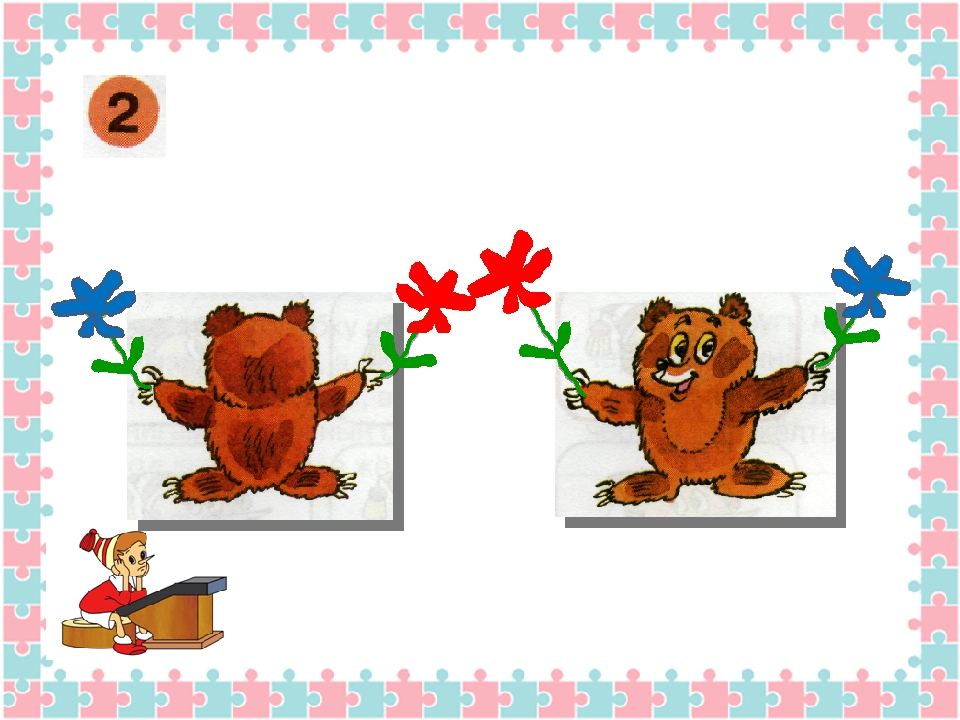 Как видно из этого примера, ситуация, в которой одна из сторон
преобладает в такой степени, что оставляет второй слишком маленькое
пространство, не могущее более считаться политически релевантным, развенчивание
бинарной оппозиции оказывается для второй стороны естественным способом замаскировать
собственную слабость. Правые побеждены? Но какой смысл формулировать проблему в
подобных терминах, если деление на правых и левых отжило свой век, спрашивают
побежденные? В универсуме, где две противопоставленные части взаимозависимы, в
том смысле, что одна существует, только если существует вторая, единственным
способом обесценить противника является обесценивание себя самого. Если то, что
было частью, оказалось целым, это означает, что противопоставление выполнило
свою задачу и необходимо начать все заново и «пойти дальше».
Как видно из этого примера, ситуация, в которой одна из сторон
преобладает в такой степени, что оставляет второй слишком маленькое
пространство, не могущее более считаться политически релевантным, развенчивание
бинарной оппозиции оказывается для второй стороны естественным способом замаскировать
собственную слабость. Правые побеждены? Но какой смысл формулировать проблему в
подобных терминах, если деление на правых и левых отжило свой век, спрашивают
побежденные? В универсуме, где две противопоставленные части взаимозависимы, в
том смысле, что одна существует, только если существует вторая, единственным
способом обесценить противника является обесценивание себя самого. Если то, что
было частью, оказалось целым, это означает, что противопоставление выполнило
свою задачу и необходимо начать все заново и «пойти дальше».
9. Теперь мы ежедневно констатируем, что после
сногсшибательных событий последних лет, приведших к падению коммунистических
режимов (в течение долгого времени прославлявшихся как доказательство
неудержимого продвижения Левой в мировом обществе и, в любом случае,
воспринимавшихся даже теми, кто с ними боролся, как наиболее радикальное
выражение левизны, наиболее ощутимое историческое воплощение идей левого
движения), соотношение сильного и слабого члена оппозиции инвертируется. Левые
уходят в тень, а правые выступают на передний план. И мы уже сталкиваемся с
тем, что к отказу от старинного противопоставления призывают преимущественно
группы и движения, которые называли себя левыми, пока ветер истории, по
видимости, дул слева, или же которые противник считал левыми и в таком качестве
осуждал, проклинал и поносил. До недавних пор можно было услышать вопрос: «А
что, правые еще живы?» После краха коммунистических режимов все чаще с не
меньшей ехидностью раздается противоположный вопрос: «А что, левые еще живы?»
[…]
Левые
уходят в тень, а правые выступают на передний план. И мы уже сталкиваемся с
тем, что к отказу от старинного противопоставления призывают преимущественно
группы и движения, которые называли себя левыми, пока ветер истории, по
видимости, дул слева, или же которые противник считал левыми и в таком качестве
осуждал, проклинал и поносил. До недавних пор можно было услышать вопрос: «А
что, правые еще живы?» После краха коммунистических режимов все чаще с не
меньшей ехидностью раздается противоположный вопрос: «А что, левые еще живы?»
[…]
Кризис советской системы повлек за собой не конец
левых, но конец некого левого движения, существовавшего в определенных
исторических рамках. У этой констатации есть следствие, дебаты о котором более
чем когда-либо далеки от завершения: не существует единственного левого
движения, существует множество левых движений, как, впрочем, и множество правых[1].
Естественно, заявляя, что существует множество левых движений, мы тем самым
подтверждаем традиционный тезис о том, что должен быть критерий разграничения
левых и правых; таким образом, выходит, что оппозиция пережила этот великий
кризис. Многие справедливо отмечали, что во время первых демократических
выборов в странах Восточной Европы различными борющимися партиями не было
воспроизведено деление на правых и левых. Но даже те, кто приводили это в
качестве сильного аргумента в пользу исчезновения противопоставления, не могли
не заметить и не признать аномальности этой ситуации перехода от тоталитаризма
к демократии и не спрогнозировать, что в ближайшем будущем, когда
демократические институции утвердятся, партии, возможно, снова сгруппируются
вокруг двух традиционных полюсов[2].
Многие справедливо отмечали, что во время первых демократических
выборов в странах Восточной Европы различными борющимися партиями не было
воспроизведено деление на правых и левых. Но даже те, кто приводили это в
качестве сильного аргумента в пользу исчезновения противопоставления, не могли
не заметить и не признать аномальности этой ситуации перехода от тоталитаризма
к демократии и не спрогнозировать, что в ближайшем будущем, когда
демократические институции утвердятся, партии, возможно, снова сгруппируются
вокруг двух традиционных полюсов[2].
10. В заключение скажем, что последней и, как
представляется, решающей причиной отказа от различия является не противостояние
двух сторон, не тот факт, что две части такого целого, каким является
политическая система, обречены рухнуть одновременно (если правых больше нет, то
нет и левых), но признание того факта, что две этикетки превратились в чистые условности,
а в действительности перед лицом сложности и новизны проблем, с которыми
приходится сталкиваться политическим движениям, «правые» и «левые» говорят
приблизительно одно и то же, формулируют, на потребу своим избирателям, более
или менее одинаковые программы и ставят перед собой одинаковые первоочередные
задачи. Правые и левые прекратили бы существование и их разграничение утратило
бы смысл не потому, что до определенного момента существовали только левые, а
потом только правые, но потому, что между первыми и вторыми больше нет тех
(предполагаемых) различий, которые стоило бы обозначать различными именами, в
действительности нужными лишь для создания ложного впечатления, что якобы
существуют противопоставления, которых в действительности больше нет, и
разжигания искусственных и сбивающих с толку распрей. […]
Правые и левые прекратили бы существование и их разграничение утратило
бы смысл не потому, что до определенного момента существовали только левые, а
потом только правые, но потому, что между первыми и вторыми больше нет тех
(предполагаемых) различий, которые стоило бы обозначать различными именами, в
действительности нужными лишь для создания ложного впечатления, что якобы
существуют противопоставления, которых в действительности больше нет, и
разжигания искусственных и сбивающих с толку распрей. […]
II. Экстремисты и умеренные
Сколь бы убедительными или неубедительными ни были
рассмотренные выше аргументы против диады «правые и левые», представляется, что
подкрепить это отрицание мог бы установленный (а в последние годы как нельзя
более очевидный) факт, который, как и любой факт, убедительнее всех, даже самых
тонких рассуждений: перемещение какого-нибудь автора (из тех, с оглядкой на
которого строят свою жизнь, кого причисляют к узкому кругу «учителей мысли») из
правых в левые или наоборот, добровольно произведенное его последователями. Достаточно будет вспомнить самые нашумевшие случаи. Ницше, вдохновителя нацизма
(то, что это вдохновение обязано своим возникновением неверной интерпретации или,
как полагаю я, лишь одной из возможных интерпретаций, — проблема, которая нас
сейчас не должна волновать), сейчас зачастую ставят рядом с Марксом как отца
новых левых; Карла Шмитта, который на протяжении некоторого периода был не
только вдохновителем, но и теоретическим проводником нацистского государства,
по крайней мере, в Италии заново открыли и воздали ему почести прежде всего
левые ученые, поскольку во время великого спора о конституционном праве в
Веймарскую эпоху он был оппонентом главного тогдашнего теоретика демократии
Ханса Келсена; Хайдеггера, чье сочувствие нацизму неоднократно и обильно
документально засвидетельствовано, хотя его обожатели (как правые, так и левые)
всегда стараются опровергнуть или затушевать этот факт, теперь назначают интерпретатором
нашего времени не только в Италии, но и, прежде всего, во Франции философы,
которые считают себя левыми.
Достаточно будет вспомнить самые нашумевшие случаи. Ницше, вдохновителя нацизма
(то, что это вдохновение обязано своим возникновением неверной интерпретации или,
как полагаю я, лишь одной из возможных интерпретаций, — проблема, которая нас
сейчас не должна волновать), сейчас зачастую ставят рядом с Марксом как отца
новых левых; Карла Шмитта, который на протяжении некоторого периода был не
только вдохновителем, но и теоретическим проводником нацистского государства,
по крайней мере, в Италии заново открыли и воздали ему почести прежде всего
левые ученые, поскольку во время великого спора о конституционном праве в
Веймарскую эпоху он был оппонентом главного тогдашнего теоретика демократии
Ханса Келсена; Хайдеггера, чье сочувствие нацизму неоднократно и обильно
документально засвидетельствовано, хотя его обожатели (как правые, так и левые)
всегда стараются опровергнуть или затушевать этот факт, теперь назначают интерпретатором
нашего времени не только в Италии, но и, прежде всего, во Франции философы,
которые считают себя левыми.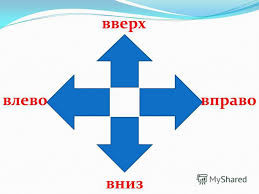 И наоборот, как прекрасно известно, некоторые
теоретики неофашистской правой осуществили попытку (откровенно говоря, довольно
мимолетную и несерьезную) присвоить себе мысли Антонио Грамши, в такой степени,
что в кругах, которые пытались придать правой мысли новые очертания и новое
достоинство, было в ходу философское течение, которое назвали «правым
грамшизмом».
И наоборот, как прекрасно известно, некоторые
теоретики неофашистской правой осуществили попытку (откровенно говоря, довольно
мимолетную и несерьезную) присвоить себе мысли Антонио Грамши, в такой степени,
что в кругах, которые пытались придать правой мысли новые очертания и новое
достоинство, было в ходу философское течение, которое назвали «правым
грамшизмом».
Хотя они стали особенно очевидными теперь, в годы
кризиса традиционных идеологий и, как следствие, понятийной путаницы,
подозрительно противоречивые интерпретации одного и того же автора сами по себе
не новы: самый знаменитый прецедент, который может прекрасно прояснить
кажущееся противоречие, — это Жорж Сорель. Политические функция и роль автора
«Размышлений о насилии» состояли в том, что он был идеологом левых движений. От
него пошло движение итальянского революционного синдикализма, которому на
короткий срок была уготована слава в судьбе социализма в нашей стране; в
последние годы он вдруг превратился в почитателя одновременно Муссолини и
Ленина, а многие из его итальянских последователей влились в фашизм; два его
известнейших итальянских почитателя, Парето и Кроче, были убежденными консерваторами,
в отношении которых, невзирая на то что в разное время на них навешивали самые
различные ярлыки, никому никогда не придет в голову применить термин «левые
деятели».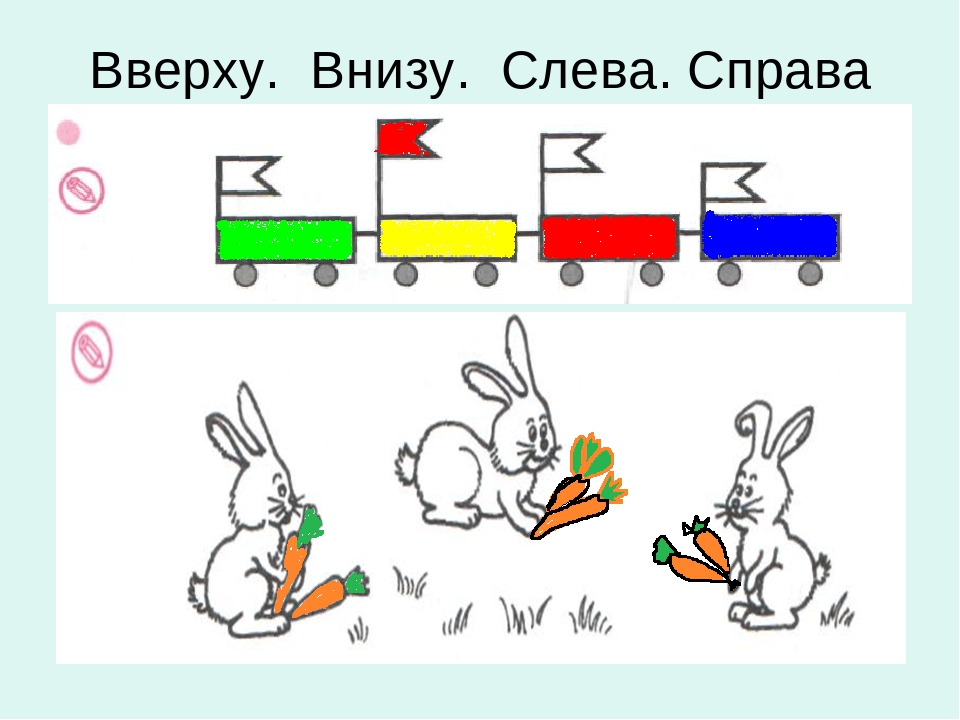 Я уже упоминал о движении консервативной революции. Сам Гитлер в
статье в «Der Völkische Beobachter» от 6 июня 1936 года
определил себя как «самого консервативного революционера в мире». Менее
известно, что в своей речи в итальянском парламенте Альфредо Рокко[3]
попросил «простить ему причуду» и разрешить быть «революционером-консерватором»
(но Рокко этими вводными словами дал понять, что он прекрасно отдает себе отчет
в парадоксальности своего высказывания).
Я уже упоминал о движении консервативной революции. Сам Гитлер в
статье в «Der Völkische Beobachter» от 6 июня 1936 года
определил себя как «самого консервативного революционера в мире». Менее
известно, что в своей речи в итальянском парламенте Альфредо Рокко[3]
попросил «простить ему причуду» и разрешить быть «революционером-консерватором»
(но Рокко этими вводными словами дал понять, что он прекрасно отдает себе отчет
в парадоксальности своего высказывания).
Прежде всего эти два последних примера
революционеров-консерваторов, но также и пример Сореля —
консерватора-революционера, позволяют нам заподозрить, что сосуществование в
одном и том же человеке правой и левой позиций (декларированных им самим или
отмеченных посмертной интерпретацией) — еще один камень в огород принятой оппозиции.
Здесь обнаруживается совершенно новая проблема, на которой стоит остановиться
специально. При внимательном рассмотрении то, что объединяет революцию и
контрреволюцию, не зависит от принадлежности к двум противоположным лагерям,
которые традиционно называются «правым» и «левым». Если бы это было так, правы
были бы те, кто полагают, что с диадой пора распрощаться, поскольку она больше
не работает как разграничение культурно и политически противоположных позиций.
Истина в другом: то общее, что есть у революционных и контрреволюционных
авторов, — это принадлежность, в рамках соответствующего лагеря, к
экстремистскому крылу, противостоящему крылу умеренному. Оппозиция
экстремизм-умеренность не совпадает с оппозицией правые-левые, поскольку, как
мы увидим, сама подчиняется в политическом универсуме критерию
противопоставления, отличному от разграничения «правые-левые».
Если бы это было так, правы
были бы те, кто полагают, что с диадой пора распрощаться, поскольку она больше
не работает как разграничение культурно и политически противоположных позиций.
Истина в другом: то общее, что есть у революционных и контрреволюционных
авторов, — это принадлежность, в рамках соответствующего лагеря, к
экстремистскому крылу, противостоящему крылу умеренному. Оппозиция
экстремизм-умеренность не совпадает с оппозицией правые-левые, поскольку, как
мы увидим, сама подчиняется в политическом универсуме критерию
противопоставления, отличному от разграничения «правые-левые».
В первом приближении видно, что оппозиция экстремизм-умеренность имеет очень мало отношения к природе исповедуемых идей, но касается их радикализации и, следовательно, различных стратегий воплощения их на практике. Таким образом объясняется, почему революционеры (левые) и контрреволюционеры (правые) могут обращаться к авторитету одних и тех же авторов: они важны для них не постольку, поскольку являются правыми или левыми, но поскольку являются экстремистами соответственно правого или левого толка и тем самым отличаются от умеренных, как правых, так и левых. Если справедливо, что критерий, который управляет разделением на правое и левое, отличается от того, который отвечает за разделение между экстремистами и умеренными, из этого следует, что противоположные идеологии могут иметь точки схождения и пересечения в своих крайних проявлениях, хотя и не утрачивают явного различия в программах и конечных целях, от которых единственно и зависит их нахождение в том или ином лагере. Лудовико Джеймонат[4], который всегда заявлял, что он экстремист (левый), даже по случаю так называемого нового основания Итальянской коммунистической партии, собрав под одной обложкой ряд своих политических статей, озаглавил сборник «Против умеренности»[5]: умеренный блок, по его суждению, — тот, который возник после Освобождения и существует до сих пор, и включает в себя так называемый блок антифашистских партий в борьбе за конституцию, в который входят и коммунисты и христианские демократы, которые отреклись от революционной трансформации государства, доставшегося им в наследство от фашизма, и удовлетворились демократией. В журнале крайне правых «Elementi» неофашист Солина написал: «Драма сегодняшнего дня носит имя умеренности. Наш главный враг — это умеренные. Умеренный — естественный демократ».
Уже из этих двух цитат вполне отчетливо видно, что левого и правого экстремиста объединяет антидемократизм (общая ненависть, если не общая любовь). Итак, антидемократизм объединяет их не по той роли, которую они играют в политическом лагере, но постольку, поскольку в этих лагерях они представляют крайности. Крайности соприкасаются. […]
V. Другие критерии
1. Дино Кофранческо наиболее часто среди итальянских исследователей обращался к теме правых и левых и, безусловно, заслуживает пристального внимания благодаря своему тонкому аналитическому уму. Согласно Кофранческо, если с развенчанием марксизма-ленинизма мы навсегда распрощались с черно-белым прочтением оппозиции правого и левого, это еще не означает, что сама оппозиция вовсе лишается смысла: «освобождение человека от несправедливой и подавляющей власти […] остается, по зрелом размышлении, прочным фундаментом левого движения как “категории политического”, способной противостоять любому процессу демифологизации». С другой стороны, и правое движение «воплощает одну из модальностей человеческого», поскольку выражает «укорененность в почве природы и истории», «защиту прошлого, традиции, наследия»[6]. Первостепенную важность в определении правого движения, предложенном в этой новой интерпретации, приобретает не священное, как у Лапуса[7], но традиция, тогда как характерной чертой левого движения оказывается понятие эмансипации (которое одновременно является ценностью, причем, как и «традиция», позитивной ценностью). Отсылка к традиции, понимаемой по-разному и проанализированной в различных своих значениях, таким образом, является постоянной характеристикой дихотомии правые-левые. […]
Дух правого движения может быть синтетически выражен в лозунге: «Ничего вне традиции и против нее, все внутри традиции и согласно ей». Если же можно констатировать, что существуют различные модальности правого, то это связано с различными значениями, которые придаются слову «традиция». Кофранческо указывает шесть таких значений: традиция как архетип, как идеализирующее принятие осевой или решающей эпохи в истории человечества, как верность нации, как историческая память, как общность судьбы и, наконец, как осознание сложности действительности. За этими разными значениями термина проглядывают различные движения или даже просто различные личные позиции, но общий им дух может объяснить, как исторически в разные моменты может происходить переход от одной к другой. Например, переход «между двумя мировыми войнами значительного числа активных политиков из правых консерваторов в правые традиционалисты и оттуда — к тоталитаризму»[8].
То, к чему стремится Кофранческо, — не столько составление перечня по большей части предвзятых, пристрастных, идеологически маркированных мнений людей или групп, которые провозглашают себя правыми или левыми, сколько разработка «критического» разграничения двух понятий, причем под критикой понимается оценочный или просто описательный анализ, который отказывается нагружать рассматриваемые термины взаимоисключающим значением и постоянно отдает себе отчет в том, что правое и левое — понятия не абсолютные, но исторически относительные или же «всего лишь два возможных способа классифицировать различные политические идеалы», и причем способы «не единственные и не всегда самые релевантные»[9]. «Критическое употребление» двух понятий, согласно Кофранческо, становится возможным лишь тогда, когда мы отказываемся воспринимать их как описание совокупностей конкретных исторических явлений и интерпретируем их как глубинные подходы, как интенции, согласно определению Карла Мангейма. Иными словами, некоторую путаницу или наложения, которые приводят к мысли, что разграничение либо изначально неверно, либо стало бесполезным в определенном историческом контексте, где левые и правые находятся на одной и той же территории, можно объяснить лишь в том случае, если два термина понимаются не как обращающиеся к глубинной интенции, к отношению, которое остается постоянным вне зависимости от принятых систем правления, я сказал бы даже (хотя наш автор и не употребляет этого слова, но оно широко распространено в определенной историографии) — к «менталитету».
С точки зрения менталитета, с этим необходимым уточнением, «правый — это тот, кто озабочен, в первую очередь, охраной традиции; левый же — тот, кто намеревается прежде всего освободить себе подобных от цепей, в которые их заковали привилегии расы, сословия, класса и т.д.»[10]. «Традиция» и «эмансипация» могут быть восприняты также как конечные или фундаментальные цели, от которых, таким образом, невозможно отказаться, как одной, так и другой стороне: они достигаются при помощи различных средств в зависимости от времени и ситуации. Поскольку одни и те же средства могут браться на вооружение то левыми, то правыми, следствием этого может стать то, что правые и левые могут встретиться и даже поменяться ролями, оставаясь при этом самими собой. Но именно из возможности использования одних и тех же средств рождается путаница, к которой придираются противники различия.
С помощью подходящих исторических примеров Кофранческо исследует ряд тем (которые, вопреки поспешным и предвзятым утверждениям некоторых авторов, сами по себе не являются ни правыми, ни левыми, потому что принадлежат обеим сторонам, по существу продолжающим противостоять друг другу, и это противостояние не отменяется такой принадлежностью): милитаризм, антиклерикализм, антикоммунизм, индивидуализм, технический прогресс, использование насилия. Речь идет, как очевидно всякому, о разграничении существенного различия, то есть того, которое касается идеального вдохновения, глубинной интенции, менталитета, и ряда несущественных или лишь воображаемых различий, зачастую используемых как полемические орудия в конъюнктурной политической борьбе. Их часто путают с существенными и применяют, чтобы давать неверные ответы на вопрос о природе различия и отрицать это различие, когда в конкретной ситуации оно не оправдывает ожиданий. Отношение между существенным различием и несущественными различиями может быть объяснено посредством разграничения постоянной конечной ценности и переменных, то есть могущих подменять одна другую, инструментальных ценностей — такой вывод можно сделать из утверждения, что «свобода и власть, процветание и режим строгой экономии, индивидуализм и антииндивидуализм, технический прогресс и ремесленный идеал в каждом случае понимаются как инструментальные ценности, то есть ценности, которые поднимаются на знамя или отвергаются в зависимости от того вклада, который они могут внести, соответственно, в укрепление традиции или в эмансипацию от какой-либо привилегии»[11].
К этому разграничению, основанному на менталитете, Кофранческо добавляет, но не противопоставляет ему, разграничение, основанное на двух отношениях не оценочного, но познавательного характера, одно из которых он называет классическим или реалистическим, а другое — романтическим или спиритуалистическим. Первое из них — это отношение критически настроенного наблюдателя, второе же характерно для человека, переживающего политику в первую очередь чувствами, а не разумом. Из шести великих идеологий, родившихся в XIX и XX веках, три — классические (консерватизм, либерализм, научный социализм), три — романтические (анархизм, фашизм и правый радикализм, традиционализм).
Уточнив, что эти шесть идеологий исчерпывают все возможное поле и в любом случае являются лишь идеальными типами, наш автор совершает следующий шаг: констатирует, что разграничение между правыми и левыми не совпадает с разграничением между классическим и романтическим типом отношения к политике. Рассмотрев возможные их комбинации, он приходит к выводу, что правыми являются две романтические идеологии, традиционализм и фашизм, и одна классическая, консерватизм, а левыми — одна романтическая, анархизм, и одна классическая, научный социализм, тогда как оставшаяся классическая идеология, либерализм, может быть правой или левой в зависимости от контекста.
Если по отношению к оппозиции правое-левое Кофранческо не занимает определенной позиции и, по видимости, судит ее беспристрастно, то как историк и политический аналитик он не скрывает своего предпочтения по отношению к одному из членов второй оппозиции, а именно классическому отношению, в сравнении со вторым, романтическим. Может показаться, что он хочет сказать: не важно, справа или слева подходить к политическим проблемам, главное — делать это классическим, а не романтическим образом. […]
Остается задать себе вопрос, является ли пара, заново определенная таким образом (с одной стороны, традиция, с другой — эмансипация), действительно парой противоположностей, каковой она должна быть, если предназначена для того, чтобы отражать антагонистический универсум политики. Противоположностью традиции должна была бы быть не эмансипация, а инновация. И наоборот, антонимом эмансипации должна была бы быть вовсе не традиция или консерватизм, но порядок, установленный свыше, патерналистским правительством или ему подобными. Разумеется, обе пары противоположностей, традиция-инновация и консерватизм-эмансипация, привели бы к тому, что было бы заново предложено привычное, не слишком оригинальное разграничение между консерваторами и прогрессистами, которое, по крайней мере в идеале, считается присущим парламентской системе как основное разделение между двумя противостоящими парламентскими группировками. Но смещение правых в сторону такого благородного термина, как традиция (вместо консерватизма или иерархического порядка), а левых — в сторону не менее благородной эмансипации (вместо инновации) может быть сочтено явным признаком того критического, намеренно неидеологизированного отношения, которое автор положил для себя обязательным с самого начала исследования, несмотря на то что в результате использования двух аксиологически позитивных терминов вместо двух негативных или, того хуже, одного позитивного и одного негативного смысл противопоставления рискует быть размытым[12].
2. В то время как Кофранческо исходит из необходимости отграничения существенного элемента оппозиции от несущественных, Элизабетта Галеотти отталкивается от предварительного требования различать контексты, в которых эта пара используется. Таких контекстов, по ее мнению, существует четыре: бытовое словоупотребление, язык идеологии, историко-социологический анализ, исследование социального воображения (в качестве примера последнего она приводит работы Лапуса, которые подробно комментирует)[13].
Эта исследовательница интересующего нас разграничения обращается к анализу идеологий, и вновь целью анализа является нахождение наиболее всеобъемлющих и исчерпывающих понятий, которые позволили бы классифицировать доминирующие идеологии последних двух веков максимально упрощенно и вместе с тем максимально полно. Возвращаясь отчасти к выводам Лапуса, она выбирает для правых термин «иерархия», а для левых — «равенство». И в этом случае оппозиция не такова, какой следовало бы ожидать. Почему «иерархия», а не «неравенство»?
Исследовательницу беспокоит, что использование менее сильного термина «неравенство» вместо более сильного «иерархия» ложным образом сместит вправо либеральную идеологию, которая, хотя и не принимает всех идей равенства, которые обычно характеризуют левые движения, и, таким образом, может в ряде аспектов быть названа антиэгалитарной, не должна смешиваться с идеологиями, для которых неравенство между людьми естественно, изначально присуще, неустранимо и которые, следовательно, более правильно будет называть «иерархическими», а не «антиэгалитарными». То есть можно сказать, что есть разные виды антиэгалитаризма: все зависит от рода неравенства, которое принимается или отвергается. Социальное неравенство, с которым мирится либерализм, по мнению Галеотти, качественно иное, чем неравенство, к которому обращается иерархическая мысль. Либеральное общество, в котором свободный рынок порождает неравенство, не есть общество жестко иерархизированное.
Разграничение между либеральным и авторитарным антиэгалитаризмом ясно, и хорошо, что этот вопрос был поднят. Более сомнительно, имеет ли это разграничение какое-либо отношение к разграничению правых и левых, и даже не столько сомнительно, сколько спорно. Язык политики сам по себе не слишком точен, поскольку по большей части заимствует слова из бытового языка, и помимо того, что он неточен с описательной точки зрения, он состоит из слов двусмысленных, если не амбивалентных в том, что касается их оценочных коннотаций. Достаточно подумать о различной эмоциональной нагрузке, которую несет как для произносящего, так и для слушающего слово «коммунизм» в зависимости от того, встречается ли оно в речи коммуниста или антикоммуниста. В любой политической распре точка зрения, понимаемая как выражение убеждения (причем не важно, частного или публичного, индивидуального или группового), опирается на симпатию или антипатию, притяжение или отвращение к какому-либо человеку или событию: в этом качестве она неустранима, проникает повсюду, и если ее не всегда замечают, то только потому, что она стремится спрятаться и зачастую не очевидна даже для самого ее носителя. То, что либерализму можно нанести оскорбление, если поместить его справа, а не слева, — точка зрения, обусловленная аксиологически позитивным употреблением термина «либерализм» и в то же время аксиологически негативным употреблением термина «правые».
Размышления о правых и левых, которые я сейчас анализирую, родились в рамках исследования нового радикального правого движения, осуществленного учеными, которые испытывают к этому движению глубокое (и, на мой взгляд, вполне оправданное) отвращение. В то же время автор исследования никогда не скрывал своих симпатий к либеральной мысли. Контекст исследования таков, что приводит к подчеркиванию негативных аспектов правого движения, и при этом взгляды исследовательницы таковы, что либерализм считается позитивной идеологией. Может закрасться подозрение, что перенесение критерия разграничения между правыми и левыми с понятия «неравенство» на понятие «иерархия» является стратагемой (пусть даже неосознанной), имеющей целью отвести от либерализма обвинение в том, что в определенной исторической обстановке он имеет обыкновение уклоняться вправо.
О мнениях не спорят. Можно лишь сделать историческое наблюдение, что, с тех пор как в Европе возникли социалистические партии, либеральные идеологии и партии в бытовом словоупотреблении стали восприниматься как правые (как в Италии и во Франции) или центристские (как в Англии или в Германии). Американские либералы — особый случай. Поэтому я поспорил бы с уместностью замены простого и ясного критерия противопоставления (такого, как равенство-неравенство) критерием менее сбалансированным (равенство-иерархия) лишь с целью спасти излюбленную идеологию от негативной оценки. Мне представляется, что это очередной интересный и довольно показательный случай совмещения аналитического отношения с идеологическим, аналогичный тому, о котором шла речь в предыдущем разделе. Этот случай еще раз показывает, хотя в том нет особой необходимости, насколько сложна интересующая нас проблема и насколько неуловима оппозиция, о которой мы рассуждали в первой главе.
Вместо того чтобы оспаривать мнение, возможно, было бы полезнее попытаться понять мотивацию его автора. Поскольку основной причиной данной корреляции, на мой взгляд, стало то, что пространство правого движения оказалось ограничено его подрывными проявлениями, спасательным кругом для либеральной идеологии могла бы стать другая стратагема, а именно разграничение правых на радикальных и умеренных, которым, с другой стороны, соответствовали бы радикальные и умеренные левые. У такого решения было бы два преимущества: бытовое словоупотребление не искажалось бы, и не пришлось бы использовать несбалансированный критерий разграничения.
Галеотти сталкивается еще с одной весьма интересной проблемой, чрезвычайно запутанной из-за того, что к политическим проблемам зачастую подходят без должного аналитического инструментария: проблемой «инакости». Говорят, что открытие «другого», темы, которую помещают на флаг феминистские движения, привело к кризису оппозиции правые-левые. Исследовательница справедливо отмечает, что это не так: наличие «другого» совместимо как с правой идеологией, что естественно, так и с левой, поскольку эгалитаризм, или устранение всех и всяческих различий, представляет собой лишь крайний горизонт левого движения, скорее в идеале, чем в реальной жизни. Равенство, о котором говорят левые, — это почти всегда равенство чего-то, «secundumquid» (согласно чему-то), равенство труда или равенство потребностей, но никогда не абсолютное равенство.
Просто невероятно, насколько сложно оказывается донести до понимания тот факт, что открытие инакости абсолютно нерелевантно по отношению к принципу справедливости, который, утверждая, что с равными нужно обращаться одинаковым образом, а с неравными — по-разному, признает, что наряду с теми, кто считаются равными, существуют и те, кто считаются неравными или другими. Если же задаться вопросом о том, кто такие равные, а кто — неравные, то это историческая проблема, которую невозможно решить раз и навсегда, поскольку критерии, которые в том или ином случае применяются для объединения разных людей в категорию равных или вычленения равных в категорию неравных, постоянно меняются. Открытие «другого» не имеет значения для проблемы справедливости, если оказывается, что речь идет об отличии, оправдывающем дискриминирующее отношение. Путаница настолько сильна, что самая великая эгалитарная революция нашего времени, а именно — феминистская революция, благодаря которой в наиболее развитых обществах женщины добились равноправия в многочисленных областях, начиная с политических прав и кончая семейными и трудовыми отношениями, была совершена под лозунгом «инакости».
Категория «другого» лишена аналитической автономии по отношению к теме справедливости по той простой причине, что не просто женщины отличаются от мужчин, но каждая женщина и каждый мужчина отличаются от других. Инакость становится релевантной, когда она ложится в основу несправедливой дискриминации. Но несправедливость дискриминации зависит не от факта инакости, а только от признания необоснованности дискриминирующего обращения.
3. Разнообразные исторические и критические наблюдения Марко Ревелли о правых и левых рождаются, аналогично наблюдениям Элизабетты Галеотти, в ходе спора о «новой правой». Широта исторического горизонта, который охватывает Ревелли, и разносторонний характер его разработок, связанных с исследуемой темой, беспрецедентны. Как я уже неоднократно говорил, одна из причин кризиса этой бинарной оппозиции состоит в нападках, которым подвергли ее реставраторы правого движения, после падения фашизма, по видимости, оказавшегося в затруднительном положении. В действительности, возникновение новой правой само по себе является подтверждением старинного противопоставления: термин «правые» обозначает часть пары, второй частью которой являются «левые». Как я не раз повторял, нет правых без левых и наоборот. Ревелли также исследует разнообразные аргументы, которые приводились для отрицания этого разграничения: исторические, политические, концептуальные и так далее. Убедившись в сложности изучаемой проблемы, он исследует различные точки зрения, с которых может наблюдаться это разграничение, и надлежащим образом выделяет разнообразные критерии, в зависимости от которых оно может осуществляться и которые исторически применялись[14]. Благодаря глубокой осведомленности о сложных перипетиях спора, ему удается исследовать проблему во всех ранее рассмотренных аспектах и предложить полную ее феноменологию. Что касается природы разграничения — предварительной проблемы, мнение по которой выразили также и предыдущие авторы, Ревелли настаивает на пункте, который заслуживает комментария.
Два термина, «правое» и «левое», — не абсолютные понятия. Они относительны. Это не сущностные и не онтологические понятия. Они не являются качествами, изначально присущими политическому универсуму. Это места «политического пространства». Они выражают определенную политическую топологию, которая не имеет никакого отношения к политической онтологии: «Невозможно быть правым или левым в том же смысле, в каком люди говорят, что являются “коммунистами”, или “либералами”, или “католиками”»[15]. Иными словами, правое и левое — не такие слова, которые обозначают зафиксированное раз и навсегда содержание. Они могут наполняться различным содержанием в зависимости от времени и ситуации. Ревелли приводит в качестве примера перемещение левого движения в XIX веке от либерального к демократическому и, наконец, социалистическому. То, что является левым, является таковым по отношению к тому, что является правым. Тот факт, что правое и левое противостоят друг другу, означает лишь то, что невозможно быть одновременно правым и левым, но ничего не говорит о содержании двух противопоставленных сторон. Противопоставление остается, несмотря на то что содержание двух членов оппозиции может меняться.
Повторим еще раз: «левые» и «правые» — термины, которые в политическом языке начиная с XIX века и вплоть до настоящего момента употреблялись для обозначения осевого универсума политики. Но этот же самый универсум может обозначаться, и в другие времена действительно обозначался, другими парами противопоставленных понятий, одни из которых обладают большой описательной ценностью, как, например, «прогрессисты» и «консерваторы», а другие меньшей, как, например, «белые» и «черные». Пара «белые-черные» также указывает только на полярность, то есть означает только то, что нельзя в одно и то же время быть белым и черным, но абсолютно не дает представления о политической ориентации одних или других. Относительность двух понятий можно продемонстрировать также, заметив, что неопределенность содержания и, следовательно, возможная его мобильность приводят к тому, что то, что является левым по отношению к определенному правому, может, при смещении к центру, стать правым по отношению к левому, оставшемуся на месте, и, симметричным образом, то, что является правым, смещаясь к центру, становится левым по отношению к правому, которое не сдвигается с места. В политической науке известен феномен «левого уклона», равно как и симметричный ему феномен «правого уклона», согласно которому тенденция смещения к крайним позициям приводит к тому, что в обстоятельствах особого социального напряжения формируется левое движение, более радикальное, чем левый фланг официального левого движения, и правое движение, более радикальное, чем правый фланг официального правого движения: левый экстремизм смещает левых вправо, а правый экстремизм — правых влево.
Настойчивое, причем вполне оправданное внимание к пространственному образу политического универсума, которое порождает метафорическое использование понятий «правого» и «левого», побуждает к новому наблюдению: когда говорят, что два парных термина противостоят друг другу, то, при желании развить эту метафору, на ум приходят медаль и ее оборотная сторона, причем правое не обязательно соответствует лицевой стороне медали, а левое — оборотной, или наоборот. Принятые выражения, которые используются для отражения этого размещения, — это «с одной стороны» и «с другой стороны». Однако вышеприведенные факты смещения левых вправо и наоборот помещают правое и левое не напротив друг друга, но одно за другим на непрерывной линии, которая позволяет постепенно переходить от одного к другому. Единственный пространственный образ, которого не допускает наша диада, как замечает Ревелли, — это сфера, или круг, где, если рисовать его слева направо, любая точка правее следующей и левее предыдущей, и наоборот, если рисовать его справа налево. Разница между первой и второй метафорами состоит в том, что первая представляет политический универсум разделенным надвое, или дуалистическим, вторая же допускает плюралистический образ, состоящий из множества сегментов, расположенных на одной линии. Ревелли справедливо замечает, что предмет, занимающий все политическое пространство, отменил бы всяческое разграничение между правым и левым, что действительно происходит при тоталитарном режиме, внутри которого дальнейшее разделение невозможно. В лучшем случае он может быть сочтен правым или левым в сопоставлении с другим тоталитарным режимом.
Но если мы допускаем, что правое и левое — два пространственных понятия, обозначающих взаимное расположение двух лагерей, что они не являются онтологическими понятиями и не имеют определенного, конкретного и постоянного во времени содержания, стоит ли делать отсюда вывод, что это пустые коробки, которые можно наполнить чем угодно?
Изучая предшествующие интерпретации, мы не можем не констатировать, что, несмотря на многообразие отправных точек и используемых методов, все их связывает некоторая родственность, до такой степени, что зачастую они кажутся вариациями на одну и ту же тему. Тема, которая всплывает во всех вариациях, — это противопоставление горизонтального, или эгалитарного, взгляда на общество и вертикального, или антиэгалитарного. Из двух терминов наиболее постоянную ценность сохраняет первый. Можно было бы даже сказать, что пара вращается вокруг понятия «левого», а вариации возникают, главным образом, за счет того, что принципу равенства противопоставляются различные возможные принципы, такие, как принцип неравенства, иерархический или авторитарный принцип. Тот же самый Ревелли, предложив пять критериев разграничения между правыми и левыми — время (прогрессизм-консерватизм), пространство (равенство-неравенство), субъекты (самоуправление-управление извне), функция (низшие классы — высшие классы), модель познания (рационализм-иррационализм) — и отметив, что конвергенция этих элементов проявляется лишь изредка, в конце концов наделил решающим значением критерий равенства-неравенства как в некотором смысле «основу для остальных», которые, соответственно, оказываются «основанными на нем». Как основной принцип, равенство — единственный критерий, который сопротивляется временной эрозии, разложению, которому подверглись другие критерии, вплоть до того, что, как неоднократно говорилось, само разграничение правого и левого оказалось под вопросом. Лишь таким образом возможно «новое основание» этой бинарной оппозиции, иными словами — «реорганизация» производных критериев «исходя из фиксированной ценности равенства» или из «ключевой функции равенства как ценности».
VI. Равенство и свобода
Из исследования, проделанного к настоящему моменту (хотя я и осознаю его ограниченность, но полагаю, что, по крайней мере, ему нельзя отказать в актуальности), и из исследований, которые я провел за эти годы на материале газет и журналов, я делаю вывод, что наиболее часто используемым критерием разграничения правого и левого является различное отношение людей, живущих в обществе, к идеалу равенства, который, наряду с идеалами свободы и мира, является одной из конечных целей, которых люди стремятся достичь и за которые они готовы сражаться. Следуя тому аналитическому духу, в котором я проводил исследование, я абсолютно абстрагируюсь от любых оценочных суждений, касающихся того, предпочтительно ли равенство по сравнению с неравенством. В том числе и потому, что эти, столь абстрактные понятия могут интерпретироваться и интерпретировались самым различным образом, и их большая или меньшая предпочтительность зависит также и от того, каким образом они интерпретируются в конкретном контексте. Понятие равенства относительно, а не абсолютно. Оно зависит по меньшей мере от трех переменных, которые необходимо учитывать всякий раз, когда заходит речь о большей или меньшей желательности равенства: субъекты, между которыми предлагается делить блага, блага, которые надлежит делить, критерий, на основе которого происходит деление[16].
Комбинируя эти три переменные, как легко представить себе, можно получить громадное количество различных типов равноправного распределения. Субъектами могут быть все, многие или некоторые, или даже кто-то один; критериями могут быть заслуги, необходимость, труд, ранг. Всеобщее избирательное право для мужчин и женщин более эгалитарно, чем всеобщее избирательное право лишь для мужчин; последнее, в свою очередь, более эгалитарно, чем избирательное право, распространяющееся лишь на грамотных мужчин, при котором благо (в данном случае одно из прав гражданства) распределяется на основе дискриминирующего критерия, такого, как умение читать и писать. Иными словами, никакой проект распределения не может обойтись без ответа на три следующих вопроса: равенство — да, но «между кем?», «в чем?», «на основании какого критерия?».
Когда утверждают, что левые эгалитарны, а правые антиэгалитарны, это ни в коем случае не означает, что для того, чтобы принадлежать к числу левых, необходимо пропагандировать максиму, что все люди равны во всем, вне зависимости от каких-либо дискриминирующих критериев, потому что это было бы не просто утопическим взглядом, но, хуже того, лозунгом, в который невозможно вложить никакого разумного содержания. Значение этого утверждения совсем другое. Попытаюсь объяснить его следующим образом — единственным, который оправдывает противопоставление, наделяя его смыслом не только понятным, но и аксиологически нейтральным, поскольку он базируется на фактических данных. Фактические данные состоят в следующем: люди между собой столь же равны, сколь и неравны. В определенных аспектах они равны, в других — неравны. Приведу самый очевидный пример: они равны перед лицом смерти, поскольку все смертны, но неравны перед лицом обстоятельств смерти, поскольку каждый умирает по-своему. Можно сформулировать это утверждение и таким образом: они равны, если воспринимать их как вид и сопоставлять с другим видом, — например, другими животными или другими живыми существами, от которых их отличают специфические отличия; они неравны между собой, если воспринимать их как индивидуумов, то есть если рассматривать каждого по отдельности. Как равенство, так и неравенство между людьми фактически истинны, поскольку соответствуют неопровержимым эмпирическим наблюдениям. Но кажущееся противоречие между двумя утверждениями: «Люди равны» и «Люди неравны» — зависит единственно от того, что именно мы наблюдаем. Итак: эгалитаристами по праву могут называть себя те, кто, хотя и не отрицает того факта, что люди столь же равны, сколь и неравны, судя людей и приписывая им определенные права и обязанности, придает большее значение тому, что делает их равными, чем тому, что делает их неравными; антиэгалитаристами же, соответственно, те, кто, отталкиваясь от того же самого положения, в тех же обстоятельствах придает большее значение тому, что делает людей неравными, чем тому, что делает их равными. Речь идет о контрасте между вариантами конечного выбора, которые уходят корнями в историческую, социальную, культурную и даже семейную и, возможно, биологическую обусловленность, о которой известно (по крайней мере, мне) весьма мало. Но именно контраст между этими вариантами конечного выбора, на мой взгляд, очень удобно маркирует два противостоящих лагеря, которые мы благодаря старинной традиции уже привыкли называть правым и левым: с одной стороны, это народ, считающий, что люди более равны, чем неравны, с другой — народ, полагающий, что мы более неравны, чем равны.
Этому контрасту между вариантами конечного выбора сопутствует также различная оценка соотношения между равенством-неравенством природным и равенством-неравенством социальным[17]. Эгалитарист исходит из убеждения, что большая часть проявлений возмущающего его неравенства, которые он хотел бы уничтожить, социально обусловлены и, таким образом, устранимы; антиэгалитарист, напротив, исходит из противоположного убеждения, что неравенство естественно и, таким образом, неустранимо. Феминистическое движение было эгалитарным движением. Сила этого движения во многом зависела от того факта, что одной из его излюбленных тем, вне зависимости от ее фактической достоверности, было утверждение, что неравенство мужчин и женщин, хотя и имеет природные корни, является продуктом обычаев, законов, диктата сильнейшего над слабейшим и может быть социально модифицировано. В этом более позднем контрасте проявляется так называемый «артифициализм», который считается одной из характеристик левого движения. Правые более склонны принимать естественный порядок вещей и то, что диктует вторая натура, то есть привычки, традиция, сила прошлого. Артифициализм левых не сдается даже перед лицом очевидных естественных различий, тех, которые нельзя приписать воздействию общества: достаточно вспомнить только об идее вызволения сумасшедших из психиатрической клиники. Наряду с мачехой-природой существует и отчим-социум. Но предполагается, что человек в состоянии изменить и то, и другое.
2. Этот контраст между различными оценками природного и социального равенства можно образцово проиллюстрировать, обратившись к двум авторам, которым вполне можно доверить представлять, соответственно, эгалитарный и антиэгалитарный идеалы: с одной стороны — Руссо, с другой — Ницше, анти-Руссо.
Контраст между Руссо и Ницше очевиден на примере различного отношения одного и другого к естественности или искусственности равенства и неравенства. В «Рассуждении об истоках неравенства» Руссо исходит из положения, что люди рождаются равными, но гражданское общество, то есть то общество, которое медленно накладывается на естественное государство посредством развития искусств, делает их неравными. Ницше же, наоборот, основывается на предположении, что люди по природе неравны (и это хорошо, помимо прочего, поскольку общество, основанное на рабстве, как, например, древнегреческая цивилизация, именно благодаря существованию рабов было высокоразвитым) и лишь общество с его стадной моралью и религией сострадания и смирения сделало их равными. Та же самая деградация, которая, по Руссо, породила неравенство, по Ницше, породила равенство. Там, где Руссо видит искусственное неравенство, подлежащее осуждению и упразднению, поскольку оно противоречит фундаментальному природному равенству, Ницше видит искусственное равенство, достойное ненависти, поскольку оно разрушает благотворное неравенство, которое заложено в людях природой. Противопоставление не могло бы быть более радикальным: во имя природного равенства эгалитарист осуждает социальное неравенство, во имя природного неравенства антиэгалитарист порицает социальное равенство. Достаточно следующей цитаты: природное равенство — это «благонравная задняя мысль, которой еще раз маскируется враждебность черни ко всему привилегированному и самодержавному, маскируется второй, более тонкий атеизм»[18].
3. Идея, сформулированная здесь, согласно которой разграничение между правыми и левыми соответствует различию между эгалитаризмом и антиэгалитаризмом, причем это последнее различие, в конечном счете, разрешается в различие восприятия и оценки того, что делает людей равными или неравными, приводит нас к такому уровню абстракции, что может способствовать в лучшем случае разграничению двух идеальных типов.
Спускаясь на ступеньку ниже, разница между двумя идеальными типами на практике превращается в разницу в оценке того, что релевантно для оправдания дискриминации (или невозможности такого оправдания).
Право голоса за женщинами не признавалось до тех пор, пока разница между мужчиной и женщиной считалась релевантной для оправдания лишения женщин права голоса. Это все равно, что сказать, что между мужчинами и женщинами есть различия, но среди этих различий нет такого, которое оправдывало бы дискриминацию в отношении права голоса. Во время великих миграций и, следовательно, встреч и столкновений между людьми, разнящимися по этническому происхождению, обычаям, религии, языку, разница между эгалитаристами и антиэгалитаристами проявляется в большей или меньшей важности, которую они придают этим различиям с целью признания за отличными от себя людьми ряда фундаментальных прав человеческой личности. Речь идет о том, чтобы установить, где проходит критерий (или критерии) дискриминации. Большая или меньшая дискриминация основывается на принципе релевантности, то есть на критерии или совокупности критериев, которые позволяют отличить релевантные различия от нерелевантных. Эгалитарист склонен сглаживать различия, антиэгалитарист — выпячивать.
Образцовой формулировкой принципа релевантности служит Третья статья Итальянской Конституции. Эта статья — своего рода синтез результатов, к которым привела вековая борьба за идеалы равенства; результатов, достигнутых посредством постепенной отмены дискриминации, базирующейся на различиях, которые некогда считались релевантными и которые постепенно перестают считаться таковыми в силу многочисленных исторических причин; результатов, поборниками и выразителями которых становятся эгалитарные учения и движения[19].
Если же сегодня перед лицом этих результатов, в конституционном порядке принятых и утвержденных, нет места разграничению между правыми и левыми, это не означает, что правые и левые внесли в это равный вклад или что, когда дискриминация объявлена нелегитимной, правые и левые согласились с этим с равной степенью убежденности.
Одно из самых нашумевших завоеваний социалистических движений (хотя сегодня его и начинают оспаривать), которое, по крайней мере до настоящего момента, вот уже сто лет как идентифицируется с левыми, — это признание социальных прав наряду с правом на свободу. Речь идет о новых правах, которые начали появляться в конституциях после Первой мировой войны и были освящены Всеобщей декларацией прав человека и другими последовавшими за ней международными соглашениями. Смысл существования социальных прав, таких, как право на образование, право на труд, право на здоровье, по природе своей эгалитарен. Все три нацелены на уменьшение неравенства между имущими и неимущими или на то, чтобы позволить все большему числу индивидуумов стать более полноценными по сравнению с индивидуумами, более удачливыми в силу рождения и социального положения.
Повторяю еще раз, что я не утверждаю, что большее равенство — это благо, а большее неравенство — зло. Я даже не хочу утверждать, что большее равенство всегда и в любом случае стоит предпочитать другим благам, таким, как свобода, благосостояние, мир. С помощью этих исторических отсылок я лишь хочу еще раз подтвердить, что если существует элемент, характеризующий учения и движения, которые называют себя левыми и повсеместно признаны таковыми, то это эгалитаризм, понятый, снова повторюсь, не как утопическое представление об обществе, в котором все индивидуумы равны во всем, но как тенденция к уменьшению неравенства неравных.
4. Я отдаю себе отчет в том, что если принять за точку отсчета и критерий разграничения противоборствующих сторон политического универсума второй великий идеал, который сопровождает, подобно идеалу равенства, всю историю человечества, а именно идеал свободы, понимаемый то как альтернатива, то как дополнение к идеалу равенства, мы окажемся перед новым противопоставлением: оппозицией между либертаристскими и авторитарными учениями и движениями. Но несмотря на то, что это разграничение столь же исторически релевантно, как разграничение между эгалитаризмом и антиэгалитаризмом, оно не совпадает с разграничением между правыми и левыми. Существуют либертаристские и эгалитаристские учения и движения как справа, так и слева, поскольку критерий свободы разграничивает политический универсум не столько в отношении целей, сколько в отношении средств или методов, которые применяются для достижения этих целей. Таким образом, речь идет о принятии или отвержении демократического метода, понимаемого как совокупность правил, позволяющих принимать коллективные решения посредством свободных дебатов и свободных выборов, не прибегая к насилию. Контраст между этими методами позволяет выделить в рамках как правого, так и левого движения умеренное и экстремистское крыло, о чем я уже вкратце говорил во второй главе. Революция и контрреволюция, или, используя другие эквивалентные выражения, новаторская и консервативная революции, указывают не столько на политическую программу, сколько на определенный способ понимания и практического воплощения борьбы за власть, который не отвергает, а даже приветствует насилие как наиболее эффективное средство достижения радикальной трансформации общества.
Если согласиться с тем, что релевантным критерием разграничения правых и левых является различное отношение к идеалу равенства, а релевантным критерием разграничения умеренного и экстремистского крыла, как среди правых, так и среди левых, является различное отношение к свободе, можно схематически разделить спектр политических учений и движений на следующие четыре части:
а) крайне левыми являются движения, одновременно эгалитарные и авторитарные; наиболее важным историческим примером тому является якобинство, даже ставшее нарицательным понятием, которое можно применить (и которое действительно применяется) для характеристики различных исторических периодов и ситуаций;
б) левоцентристскими являются учения и движения, одновременно эгалитарные и либертаристские, которые сегодня мы можем обозначить выражением «либеральный социализм», включающим в себя все социал-демократические партии, хотя они и различаются по своим политическим практикам;
в) правоцентристскими являются учения и движения, одновременно либертаристские и антиэгалитарные, в число которых входят консервативные партии, отличающиеся от правых реакционных партий своей приверженностью демократическому методу, но при этом в отношении идеала равенства они провозглашают себя сторонниками исключительно равенства перед лицом закона, которое подразумевает единственно обязанность судьи беспристрастно применять законы;
г) крайне правыми являются учения и движения, одновременно антилиберальные и антиэгалитарные, и мне представляется излишним указывать на такие печально известные исторические примеры подобных идеологий, как фашизм и нацизм.
Само собой разумеется, что действительность более разнообразна, чем эта схема, выстроенная лишь на основании двух критериев, но речь идет о двух фундаментальных критериях, которые в совокупности позволяют нарисовать карту, восстанавливающую в правах спорное разграничение правых и левых и одновременно проясняющую очевидное недоумение, почему правыми или левыми считаются такие разнородные явления, как слева — коммунизм и демократический социализм, а справа — фашизм и консерватизм; кроме того, она объясняет, почему, несмотря на свою разнородность, в критических ситуациях они могут солидаризироваться и объединяться в союзы.
[…]
Перевод с итальянского Яны Токаревой
text-align | htmlbook.ru
| CSS | Internet Explorer | Chrome | Opera | Safari | Firefox | Android | iOS | |
| 2.1 | 6.0+ | 8.0+ | 1.0+ | 3.5+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ | 1.0+ |
| 3 | 2.0+ | 11.6+ | 3.1+ | 3.6+ | 2.1+ | 2.0+ | ||
Краткая информация
Версии CSS
Описание
Определяет горизонтальное выравнивание текста в пределах элемента.
Синтаксис
| CSS2.1 | |
| CSS3 | |
Значения
- center
- Выравнивание текста по центру. Текст помещается по центру горизонтали окна браузера или контейнера, где расположен текстовый блок. Строки текста словно нанизываются на невидимую ось, которая проходит по центру веб-страницы. Подобный способ выравнивания активно используется в заголовках и различных подписях, вроде подрисуночных, он придает официальный и солидный вид оформлению текста. Во всех других случаях выравнивание по центру применяется редко по той причине, что читать большой объем такого текста неудобно.
- justify
- Выравнивание по ширине, что означает одновременное выравнивание по левому и правому краю. Чтобы произвести это действие браузер в этом случае добавляет пробелы между словами.
- left
- Выравнивание текста по левому краю. В этом случае строки текста выравнивается по левому краю, а правый край располагается «лесенкой». Такой способ выравнивания является наиболее популярным на сайтах, поскольку позволяет пользователю легко отыскивать взглядом новую строку и комфортно читать большой текст.
- right
- Выравнивание текста по правому краю. Этот способ выравнивания выступает в роли антагониста предыдущему типу. А именно, строки текста равняются по правому краю, а левый остается «рваным». Из-за того, что левый край не выровнен, а именно с него начинается чтение новых строк, такой текст читать труднее, чем, если бы он был выровнен по левому краю. Поэтому выравнивание по правому краю применяется обычно для коротких заголовков объемом не более трех строк. Мы не рассматриваем специфичные сайты, где текст приходится читать справа налево, там возможно подобный способ выравнивания и пригодится.
- auto
- Не изменяет положение элемента.
- inherit
- Наследует значение родителя.
- start
- Аналогично значению left, если текст идёт слева направо и right, когда текст идёт справа налево.
- end
- Аналогично значению right, если текст идёт слева направо и left, когда текст идёт справа налево.
Пример
HTML5CSS2.1IECrOpSaFx
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>text-align</title>
<style>
div {
border: 1px solid black; /* Параметры рамки */
padding: 5px; /* Поля вокруг текста */
margin-bottom: 5px; /* Отступ снизу */
}
#left { text-align: left; }
#right { text-align: right; }
#center { text-align: center; }
.content {
width: 75%; /* Ширина слоя */
background: #fc0; /* Цвет фона */
}
</style>
</head>
<body>
<div><div>Выравнивание по левому краю</div></div>
<div><div>Выравнивание по центру</div></div>
<div><div>Выравнивание по правому краю</div></div>
</body>
</html>Результат данного примера показан на рис. 1.
Рис. 1. Выравнивание текста в браузере Safari
Internet Explorer до версии 7.0 включительно несколько иначе трактует данный пример, чем другие браузеры, выравнивая не только текст, но и блоки (рис. 2).
Рис. 2. Выравнивание текста в браузере Internet Explorer 7
Объектная модель
[window.]document.getElementById(“elementID”).style.textAlign
Браузеры
IE до версии 7.0 включительно выравнивает не только содержимое блочного элемента, но и сам элемент.
Правые/Левые | Понятия и категории
ПРАВЫЕ/ЛЕВЫЕ (DROIT/GAUCHE). В детстве я как-то спросил отца, что значит для политика быть правым или левым. «Быть правым, — ответил он, — значит мечтать о величии Франции. Быть левым — мечтать о счастье для французов». Не знаю, сам ли он придумал эту формулировку. Он не питал особенной любви к французам, как, впрочем, и к остальному человечеству, и часто повторял, что мы живем на этой земле вовсе не ради того, чтобы быть счастливыми. Поэтому в его устах определение явно звучало как кредо правых сил — тем-то оно ему и нравилось. Однако сторонник левых точно так же мог бы взять его на вооружение, сделав акцент не на первой, а на второй его части, — и этим определение нравится лично мне. «Франция, величие! Все это опасные абстракции, — сказал бы наш левый политик. — Другое дело счастье французов — вот это действительно достойная цель». И все-таки приведенное выше определение не может считаться полным. Мало того — это вообще не определение, поскольку ни величие, ни счастье не могут быть чьей-то принадлежностью.
Прошло немало времени, и вот уже мои собственные дети начали, в свою очередь, задавать мне тот же вопрос. Я как мог пытался ответить им, стараясь подчеркнуть основополагающие, на мой взгляд, различия. Мне кажется, что нарочитое деление на «белое и черное» в данном случае помогает яснее распознать суть явления, хотя подобная «двоичная» логика, навязываемая нам самим мажоритарным принципом, разумеется, не соответствует ни сложности понятия, ни реальным колебаниям политической позиции существующих сил. Может быть, что одна и та же идея пользуется поддержкой в каждом из противоборствующих лагерей (например, идея федеральной Европы, разделяемая как сегодняшними правыми, так и левыми), а то и перекочевывает из одного лагеря в другой (например, национальная идея, в XIX веке провозглашаемая левыми, в XX столетии заметно «поправела»). Но значит ли это, что нам пора отказаться от принципа деления на правых и левых, глубоко укоренившегося в демократической традиции начиная с 1789 года (всем известно, что в его основу лег чисто пространственный фактор: депутаты Учредительной ассамблеи, представлявшие противоборствующие партии, рассаживались справа или слева от председателя собрания) и до сих пор накладывающего столь яркий отпечаток на все политические дебаты демократического общества? Может, этот принцип действительно устарел и его пора заменить чем-нибудь другим? Такие попытки уже предпринимались. В 1948 году Шарль де Голль заявлял, что оппозиция существует не между правыми и левыми, а между теми, кто стоит наверху и имеет возможность обзора, и теми, кто «болтается внизу, барахтаясь в болоте». По-моему, это типично правый подход, как, впрочем, и любой другой, отражающий ту же попытку выхолостить содержательный смысл противопоставления правых и левых, противопоставления, бесспорно, схематичного, но полезного в качестве эффективного инструмента структуризации и прояснения понятия. Найдется ли сегодня хоть один политолог, хоть один политик, способный без него обойтись? Впрочем, Ален еще в 1930 году дал ответ на этот вопрос: «Когда меня спрашивают, имеет ли в наши дни смысл деление партий и отдельных политиков на правых и левых, первая мысль, которая приходит мне в голову, заключается в следующем: человек, задающий этот вопрос, наверняка не принадлежит к левым» (Речь от декабря 1930 года). Лично я на подобные вопросы реагирую точно так же, и это заставляет меня заниматься поиском различий между правыми и левыми, какими бы расплывчатыми и относительными они ни представлялись.
Первое различие лежит в области социологии. Левые представляют те слои населения, которые в социологии принято называть народными, иначе говоря, наиболее бедных (или наименее богатых) людей, не имеющих никакой (или почти никакой) собственности; тех, кого Маркс именовал пролетариями, а мы сегодня предпочитаем именовать наемными работниками, т. е. людьми, живущими на заработную плату. Правым, которые по необходимости черпают некоторые ресурсы из указанных слоев (что неудивительно, ведь последние представляют собой подавляющее большинство населения) гораздо легче найти общий язык с независимыми индивидуумами, неважно, проживающими в городе или в деревне, но владеющими землей или средствами производства (собственным магазином, мастерской, предприятием и т. д.), с теми, кто заставляет других работать на себя или работает сам, но не на хозяина, а на самого себя. Это дает нам первую линию водораздела, проходящую как бы между двумя народами, или два полюса, на одном из которых сосредоточены неимущие крестьяне и наемные работники, а на другом — буржуа, земельные собственники, руководящие кадры, представители свободных профессий, владельцы промышленных и торговых предприятий, в том числе мелких. Между этими двумя мирами существует бесчисленное множество промежуточных состояний (пресловутые «средние классы») и имеет место беспрестанное перетекание из лагеря в лагерь (перебежчики и сомневающиеся). Граница между ними отнюдь не непроницаема, и чем дальше, тем становится все более подвижной, однако полностью не исчезает. Ни один из обоих лагерей не обладает монополией на выражение интересов конкретного класса, что очевидно (все мы хорошо помним, что Национальный фронт во времена своего зловещего расцвета был на пути к тому, чтобы стать крупнейшей рабочей партией Франции), но тем не менее игнорировать социологический аспект проблемы совершенно невозможно. Даже притом, что правые регулярно перетягивают на свою сторону некоторое количество голосов беднейших слоев населения, им никогда не удавалось, во всяком случае во Франции, по-настоящему глубоко проникнуть в рабочее профсоюзное движение. С другой стороны, за левых голосует не больше 20% земельных собственников и владельцев предприятий. Как в первом, так и во втором случае мне довольно трудно видеть в этом простое совпадение.
Второе различие носит скорее исторический характер. Начиная со времен Французской революции левые постоянно выступают за наиболее радикальные перемены и предлагают самые далекоидущие планы. Настоящее никогда их полностью не удовлетворяет, не говоря уже о прошлом, они всегда — за революцию или реформы (разумеется, в революции левизны больше, чем в реформах). Таким образом левые выражают свою приверженность прогрессу. Что касается правых, то, никогда не выступая против прогресса (кто же против прогресса?), они скорее демонстрируют склонность к защите того, что есть, и даже, как свидетельствует история, к реставрации того, что было. Итак, с одной стороны, партия движения, с другой — партия порядка, консерватизма и реакции. Опять-таки, не будем забывать об оттенках и нюансах между той и другой, что особенно характерно для последнего периода (стремление левых к защите достигнутых достижений нередко берет у них верх над реформаторством, так же как стремление правых к либеральным реформам порой превалирует над их консерватизмом). Вместе с тем никакие оттенки и переходы не в силах размыть направление основного вектора. Левые ратуют главным образом за прогресс. Настоящее наводит на них скуку, прошлое их тяготит, они, как поется в «Интернационале», готовы разрушить весь мир «до основания». Правые более консервативны. Прошлое представляется им в первую очередь наследием, которое надлежит сохранить, но никак не тяжким бременем. Настоящее, на их взгляд, вполне приемлемо, и если будущее будет на него походить, то это скорее хорошо, чем плохо. В политике левые видят в первую очередь средство возможных перемен, правые — способ сохранения необходимой преемственности. Различие между левыми и правыми пролегает в их отношении ко времени, что выдает принципиально разное отношение к реальной и воображаемой действительности. Левые демонстрируют явную, порой опасную, склонность к утопии. Правые — склонность к реализму. В левых больше идеализма, в правых — озабоченности практической пользой. Это не мешает стороннику левых сил проявлять здравомыслие, а представителю правых иметь возвышенные идеалы. Но и тому и другому будет очень и очень нелегко убедить в своей правоте соратников по лагерю.
Третье различие имеет непосредственное отношение к политике. Левые провозглашают себя выразителями народных интересов и представителями народных институтов (партий, профсоюзов, ассоциаций), главным из которых является парламент. Правые, не высказывая открыто презрения к народу, все же более привержены понятию Нации с большой буквы, Отчизне, культу родной земли или главы государства. Левых можно считать выразителями идеи республики, правых — выразителями национальной идеи. Левые легко впадают в демагогию, правые — в национализм, ксенофобию или авторитаризм. Ни тем ни другим это не мешает на практике выступать с отчетливо демократических позиций, а порой — склоняться к тоталитаризму. Однако у каждого из движений свои мечты, и каждое из них преследуют свои бесы.
Четвертое различие лежит в сфере экономики. Левые отрицают капитализм и мирятся с ним лишь потому, что вынуждены делать это. Они больше доверяют государству, нежели рынку. Национализацию они встречают с восторгом, приватизацию — с сожалением. С правыми дело обстоит прямо противоположным образом (во всяком случае, в наши дни): они делают ставку не на государство, а на рынок и именно по этой причине приветствуют капитализм. Они соглашаются на национализацию лишь под сильным давлением и при первой возможности стремятся к приватизации. Опять-таки, это не мешает человеку левых взглядов быть либералом, даже в вопросах экономики (например, таким был Ален), а человеку правых убеждений — быть государственником и ратовать за усиление государственного сектора в экономике (таким был де Голль). Но в общем и целом это различие, затрагивающее основополагающие принципы, остается незыблемым. Сильное государство располагается слева, рынок — справа. Планирование экономики — слева, конкуренция и свободное соревнование — справа.
Нетрудно заметить, что на протяжении последнего времени в области экономики правые одержали убедительную победу над левыми, во всяком случае теоретически. Правительство Жоспена приватизировало больше предприятий, чем правительства Жюппе и Балладюра (при этом, надо отдать ему должное, оно гораздо меньше бахвалилось своими успехами), и сегодня лишь ультралевые еще осмеливаются выступить с предложением национализации какого бы то ни было предприятия. В этих обстоятельствах приходится только удивляться, что в сфере политики левым удается вполне успешно противостоять правым, а по многим вопросам даже брать верх. Здесь надо сказать, что на руку левым играет сама социология (среди населения все больше становится тех, кто живет на зарплату, и все меньше тех, кто имеет независимые источники существования). Завоевания левых обеспечили им солидный «капитал симпатий» со стороны широких масс населения. Свобода ассоциаций, налог на прибыль, оплачиваемые отпуска — все это «изобретения» левых, оспаривать которые сегодня уже никому не приходит в голову. Еще одно новшество — налог на состояние — также появилось благодаря усилиям левых; правые, со своей стороны, предприняли попытку его отменить, а когда она провалилась, им не оставалось ничего другого, кроме как кусать с досады пальцы. Сегодня уже не найдется ни одного предпринимателя, который осмелился бы покуситься на 35-часовую рабочую неделю. Левые и в самом деле многого добились, и их поражение в теории (нуждающееся в осмыслении: левые убеждения, как справедливо отметил Колюш (201), не освобождают от необходимости быть умным) компенсируется своего рода моральной или духовной победой над правыми. Мне хотелось бы написать, что все наши сегодняшние ценности имеют левую природу, поскольку зиждутся на независимости от богатства, рынка, национальных интересов и презирают границы и традиции, склоняясь перед человечностью и прогрессом. Но это, конечно, было бы преувеличением. Тем не менее многие люди, особенно среди интеллектуалов, остаются левыми и делают это прежде всего из нравственных побуждений. Принадлежность к правым объясняется скорее корыстью или экономическими интересами. «С чего вы взяли, что обладаете монополией на человеческие чувства!» — воскликнул во время одного из нашумевших дебатов некий политик правого толка, обращаясь к оппоненту-социалисту. Сам факт того, что он заговорил о чувствах, свидетельствует о многом. Ни один деятель левого движения никогда не стал бы апеллировать к этому аргументу, настолько «левый» характер человеческих чувств, в том числе проявляемых в политике, всем без исключения представляется очевидным, само собою разумеющимся. Отсюда странная асимметрия, наблюдаемая в политической полемике, во всяком случае во Франции. Вы ни за что не найдете, как ни трудитесь, ни одного левого политика, который будет отрицать свою левизну или ставить под сомнение справедливость деления на левых и правых. И наоборот, несть числа правым, с пеной у рта убеждающим нас, что это деление давно утратило смысл, а Франция, как недавно заявил один из них, нуждается в центристском руководстве. Все дело в том, что принадлежность к левым воспринимается как добродетель: левые обычно пользуются репутацией благородной, сострадательной к людям, бескорыстной партии. Принадлежность к правым, не дотягивая до порока, тем не менее расценивается как что-то низменное: правые по умолчанию эгоистичны, бессердечны к слабым, обуяны жаждой наживы и т. д. С политической точки зрения это, конечно, звучит наивно, однако нельзя отрицать, что подобная асимметрия существует. О своей левизне человек заявляет с гордостью. В «правизне» он признается.
Все вышесказанное подводит нас к последним из различий, на которых я хотел бы остановиться. Они носят скорее философский, психологический или культурный характер, сталкивая не столько социальные силы, сколько менталитеты, и проявляясь не столько в программах, сколько в поведении, не столько в планах действий, сколько в ценностях. В арсенале левых такие идеалы, как равенство, свобода нравов, светский характер общества, защита слабых, даже если они в чем- то провинились, интернационализм, право на свободное время и отдых (оплачиваемые отпуска, минимальный пенсионный возраст в 60 лет, 35-часовая рабочая неделя), сострадание к ближнему и солидарность. Козыри правых — личный успех, свобода предпринимательства, религиозность, иерархия, безопасность, любовь к Родине и семье, трудолюбие, настойчивость, соревновательность и чувство ответственности. А как со справедливостью? Борцами за справедливость объявляют себя и те и другие, однако концепция справедливости у тех и других диаметрально противоположна. С точки зрения левых, справедливость это прежде всего равенство; они мечтают, чтобы люди были равны не только юридически, но и фактически. Поэтому левые так легко склоняются к уравниловке. Их кредо — каждому по потребностям. Если человеку повезло родиться умнее других, получить лучшее образование, иметь более интересную или более престижную работу, с какой стати, спрашивается, он должен претендовать еще и на большее материальное благополучие? Впрочем, практически во всех странах этой позиции сегодня придерживаются только крайне левые. Остальные мирятся с существующим положением вещей, хотя это дается им с трудом. Любое неравенство в глазах левого деятеля предстает подозрительным или предосудительным, он терпит его в силу невозможности вмешаться, будь его воля — от неравенства не осталось бы и следа. По мнению правых, справедливость базируется на наказании и награде. Равенство прав необходимо, но оно не в состоянии ликвидировать неравенство талантов или личных достижений. Почему бы наиболее способным или наиболее трудолюбивым и не быть богаче остальных? Почему бы им не сколотить состояние? И почему их дети не должны иметь права воспользоваться тем, что накопили родители? С точки зрения правых, справедливость заключается не столько в равенстве, сколько в пропорции. Поэтому правые так горячо поддерживают элитарность и принцип отбора. Их кредо — каждому по заслугам. Следует ли защищать слабых? Пожалуй, но не в такой степени, чтобы поощрять слабость и, напротив, лишать стимула самых предприимчивых, самых талантливых и самых богатых.
Все это — лишь тенденции, которые могут уживаться не только в одном и том же человеке, но и в одном и том же течении мысли (например, евангельская притча о богатом юноше отражает левое мировоззрение, а притча о талантах — правое мировоззрение). Вместе с тем эти тенденции представляются мне достаточно четкими, чтобы каждый мог в них определиться. К подобной поляризации подталкивает сама потребность демократии у большинства, и вместо того, чтобы делать вид, будто ее не существует, гораздо разумнее принять ее как данность. Это, разумеется, не означает, что та или иная партия, тот или иной политический деятель, причисляющий себя к левым или правым, обязан разделять все без исключения взгляды, характерные для одного из движений. Каждый из нас выбирает собственный путь между этими двумя полюсами, занимает собственную позицию, принимает те или иные компромиссы, устанавливает свой баланс сил. Можно исповедовать левые убеждения, оставаясь сторонником крепкой семьи, безопасности и трудолюбия. Можно придерживаться правых взглядов, отнюдь не отвергая необходимости реформ и защищая светский характер общества. Правые и левые, повторим, являют собой два полюса, но жизнь протекает не только на полюсах. Они существуют в виде двух тенденций, но следование одной вовсе не исключает влияния другой. Что лучше — с одинаковой ловкостью владеть обеими руками или быть одноруким инвалидом? Ответ очевиден.
И наконец, последнее. Защищая левые или правые взгляды, необходимо делать это с умом. И это-то и есть самое трудное. Но и самое важное. Ум не является принадлежностью какого-то одного из двух лагерей. Вот почему нам нужны оба — со всеми разделяющими их различиями.
Примечания
201. Колюш (1944-1986) — настоящее имя Мишель Колючи; французский комедийный актер. С 1973 г. вел телешоу «Прощай, мюзик-холл».
Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. – М., 2012, с. 422-428.
Правые и левые на Алтае выступили единым фронтом / Политика / Независимая газета
Оппозиция пытается вернуть прямые выборы мэров
Всенародное избрание мэров – одно из ключевых требований оппозиции. Фото с сайта www.semnasem.ru
По информации «НГ», Госсобрание (Эл Курултай) Республики Алтай рассмотрит два варианта возвращения в закон нормы об избрании мэров гражданами. Первый – это инициатива «Яблока» о проведении референдума, одобренная избиркомом. Второй – законопроект КПРФ, внесенный в парламент республики. Помощь партиям оказал глава местного ПАРНАСа Сергей Михайлов. Объединившаяся оппозиция считает, что шансы добиться всенародных выборов весьма высоки.
Алтайский избирком одобрил инициативу «Яблока» о возврате всенародных выборов мэра Горно-Алтайска и глав районов лишь с третьего раза. Теперь Эл Курултай до 29 января обязан принять постановление о законности или незаконности назначения республиканского референдума.
Соответствующее ходатайство избирком направил в Госсобрание 9 января – и сначала его должен рассмотреть парламентский комитет по законодательству, пояснил глава горно-алтайского отделения «Яблока» Александр Думнов. Напомним, что и прошлом году избирком уже дважды отказывал «Яблоку» в передаче вопроса о референдуме депутатам якобы из-за неких нарушений в поданных документах. Заметим, что партия выносит на суд граждан не какие-то общие слова о прямых выборах, а текст конкретного законопроекта.
При этом параллельно аналогичные поправки внесены в Эл Курултай и депутатом КПРФ Марией Деминой, которая уже заявила о возможной поддержке большинства парламентариев. Однако она утверждает, что не согласовывала с «Яблоком» свою инициативу, считает, что требование референдума – это скорее подстраховка, чем реальное действо. По словам Деминой, тот же комитет по законодательству рассмотрит документ не позднее начала февраля, она надеется на положительное решение. Отметим, что после выборов в Госсобрание 2019 года этот профильный комитет возглавляет глава фракции КПРФ Виктор Ромашкин – он же лидер всех коммунистов республики.
Поэтому Демина и не исключает, что законопроект депутатами будет принят: к голосам КПРФ вроде бы присоединяются независимые, а также ЛДПР и «Справедливая Россия». Есть расчет и на часть депутатов от «Единой России». Например, ранее секретарь реготделения ЕР Татьяна Гигель заявила СМИ, что «партия никогда не боялась прямых и открытых выборов», хотя и не ответила четко, как единороссы будут голосовать по запросу о референдуме или законопроекту Деминой. Политический расклад в Госсобрании такой: у ЕР 24 мандата из 41, 8 депутатов считаются независимыми, у фракции КПРФ из 5 человек. По одному мандату у ЛДПР, «Справедливой России» и «Родины».
Член федерального политсовета ПАРНАСа Сергей Михайлов, как раз и курирующий в партии проведение референдумов в регионах, сообщил «НГ», что он помогал и яблочникам, и коммунистам, являясь автором обеих инициатив. То есть получается, что действия всей местной оппозиции согласованы. «У нас по вопросу возвращения выборов мэров объединились и правые, и левые, вся оппозиция заодно и выступает единым фронтом», – подтвердил Михайлов. При этом, по его словам, и Демина попросила его написать соответствующий законопроект, и яблочники консультировались с ним, зная о большом парнасовском опыте в вопросах подготовки референдумов. «Они проявили настойчивость, подав следующее ходатайство уже через сутки после второго отказа», – похвалил Михайлов коллег из «Яблока».
По его мнению, противоречия между обеими инициативами действительно нет, наоборот, они подстраховывают друг друга. «Наверное, сейчас была команда сверху на уровне избиркома инициативу о референдуме пропустить, потому что все моральные аргументы недопуска просто закончились, но у власти есть надежда, что инициативу заблокируют на уровне Госсобрания. Однако сейчас ситуация в регионе изменилась после того, как ЕР потерпела на выборах фиаско, когда из прошлого созыва не прошло 20 из 28 депутатов. Расклад в Эл Курултае такой, что, например, ЕР для кворума нужна оппозиция», – подчеркнул Михайлов. И отказать в референдуме на основании того, что уже внесен законопроект, депутаты не имеют права: они должны проверить формулировку вопроса на соответствие закону.
Но все же перспективы у референдума не очень большие: во-первых, федеральная власть не заинтересована в разрешении региональных плебисцитов, а во-вторых, это все-таки довольно дорогостоящее мероприятие, так что депутаты могут сослаться именно на этот факт. А вот отвертеться от законопроекта ЕР будет уже не так просто. То есть выходит так, что есть шансы на скорое возвращение выборов мэров – тем или иным способом. И эти шансы создает именно политическая ситуация в регионе. «Во-первых, голосование в парламенте открытое, всегда публикуется список, кто как голосовал. И депутаты учитывают урок прошлогодних выборов. Во-вторых, мы рассчитываем на раскол среди единороссов, там сейчас много молодых депутатов, которые не понимают, почему они вынуждены действовать вопреки интересам избирателей. В-третьих, в Горно-Алтайске непопулярный мэр, в городе фактически мусорный и снежный коллапс. Поэтому возвращение прямых выборов и жителей волнует как никогда. В-четвертых, мы специально подвели Госсобрание к такой «шахматной» развилке: если нельзя референдум, то почему не принять законопроект? Партия власти оказалась в очень неудобном положении», – отметил Михайлов.
Левые и правые. Книга Израиля [Путевые заметки о стране святых, десантников и террористов]
Левые и правые
«Две калоши старые – левая и правая…» – как пели в годы раннего детства автора, когда ещё у всех окружающих испокон и до скончания веку в паспортах в графе «гражданство» был СССР, а Израиля ни у кого из его родственников не было ни в какой перспективе. Как не было США, Канады, Германии, Великобритании, Чехии, Австралии и прочих Сингапуров и Новых Зеландий, где теперь «наших» – как собак нерезаных. Не в смысле молодёжного движения, зачатого и выношенного под патронажем Администрации президента и лично В. Суркова, а в исконном смысле этого слова.
Израиль, как известно не только всем, кто там бывал, но и многим из тех, чья нога не ступала на его землю, страна до крайности политизированная. Поскольку, как сказано в Торе, течёт его земля молоком и мёдом. И уж кого-кого, а любителей лизнуть бюджетного мёду на халяву и молоком запить там пруд пруди. Благо «халява» – слово самое что ни на есть еврейское. Точнее, ивритское. «Халаф». Как и вся русская феня, вроде «ксивы», «хазы», «мусора» и, извините, «параши».
Означает «халаф» именно молоко. Которое в тюрьмах то ли всей Малороссии, когда она ещё понятия не имела, что когда-нибудь на свою голову станет незалежной Украиной, то ли одной только Одессы в жаркое время года давали заключённым в качестве питья – вместо воды, которая была там в страшном дефиците. И созывали «братву» на перерыв в трудовой деятельности во благо Российской империи «на халаф». А поскольку народ в этих тюрьмах сидел не исключительно еврейский (хотя в огромной массе именно он и сидел), то, попав в воровское «арго», слово это неизбежно изменилось – всё-таки его не лингвисты-филологи переняли, – после чего разлетелось по всей стране. Укоренившись в русском языке и напрочь потеряв в нём прежнее значение.
Потеряло оно его до такого состояния, что именно на этом вопросе автор в начале 90-х, играя в «Что? Где? Когда?», выиграл у команды, возглавляемой самим Александром Друзём. Правда, игра, естественно, была не настоящей: с совой, волчком и пронзительной руладой в начале каждого сета, а так, молодёжной развлекушкой на очередной большой еврейской посиделке под Питером. Что сработало: Друзь расслабился. Но тут как с Крымом – кто смел, тот и съел, а победителей не судят. Все те, кто недоволен, могут проявлять свои эмоции до морковкина заговения. У французов это называется «остроумие на лестнице».
Впрочем, не только с невинным изначально и вполне приемлемым ныне в приличном обществе «халафом» в русском языке произошли такие изменения. «Мусор», вообще-то, тоже отнюдь не бытовые отбросы, как полагают особо обидчивые милиционеры, ставшие волею судьбы и Дмитрия Анатольевича Медведева в бытность его третьим президентом всея России полицейскими, а «мосер». С ударением на последний слог. Что переводится как «предатель».
Именно так вполне резонно называли евреи-уголовники евреев-чекистов. Которые представляли не еврейскую, а общенациональную, то есть гойскую, власть и собратьев по этническому происхождению ловили, сажали и расстреливали. Что приличным евреям делать запрещено – к вопросу о жидомасонском, всемирном, сионистском и прочих заговорах и засильях… И в результате остались все они, чекисты, таки по Бабелю: «с одним смитьём».
Кстати, чтобы закончить с темой: «параша» в исконном смысле – глава из Торы. Тоже с ударением на конце слова. Так как единственная книга, которую в тюрьме можно было держать в камере, – Библия. И читать, сидя орлом, как у грамотного населения по сей день заведено, можно было только её. По одной главе. Чтобы не увлекаться и не занимать дефицитное место общего пользования, куда всегда очередь. Не забудем, что евреи, согласно древней национальной традиции, были и остаются грамотными стопроцентно. Хоть в России у царя, хоть в Америке у президента, хоть у лысого беса на чёртовых выселках. Хоть на воле, хоть в тюрьме. Народ такой.
Отсюда, кстати, и происходит странная для тех, кто этого не знает, фраза «Да читал я эту парашу». Поскольку читать главу из книги, хоть из Торы, хоть из «Краткого курса истории ВКП (б)», хоть из «Хождения по мукам», несколько проще, чем перелистывать фаянсовый стульчак городского ватерклозета, деревянную сидушку деревенского сортира или примитивное жестяное ведро. Желающие оспорить этот простейший факт могут попробовать. Автору будет крайне любопытно узнать результат. Хотя, впрочем, в мире столько идиотов…
Последнее перед возвращением к сюжету о левых и правых партиях и избирателях этих партий в Государстве Израиль краткое отступление, существенное для евреев, антисемитов и интересующихся. Российский уголовный жаргон, вошедший, благодаря кинематографу и той повышенной культуре речи, которую являет в постсоветский период вся отечественная «элита» – деловая, политическая и прочая, – в нормальную языковую лексику, насыщен «евреизмами» не потому, что злобные семитские уголовники заразили им чистых, аки агнцы, славян. В рамках грядущего этих народов порабощения, спаивания и изничтожения как оплота православия, казачества и борьбы с однополыми браками вселенского масштаба. А просто потому, что сформирован был этот сленг именно в западных губерниях империи, большие города которой были еврейскими процентов на тридцать-сорок, а маленькие на семьдесят-восемьдесят.
Евреи, зажатые в черте оседлости, как шпроты в банке, имели на исторический период, о котором речь, повышенную пассионарность. Как писал о соответствующих ситуациях, вовсе не имея евреев в виду, Гумилёв. То есть рвались из своих местечек куда глаза глядят. Кто в эмиграцию – от Палестины и Аргентины до Шанхая и Южной Африки. Кто в те районы империи, куда периодически открывали доступ инородцам. К которым относились не только евреи – но они в первую очередь. Поскольку районы были очень уж дикие и гиблые. Например, Сибирь. Кто в революцию – за которой опять-таки следовала та же Сибирь. Кто просто в уголовщину. Откуда и взялись «Одесские рассказы». А также американские аналоги Фроима Грача и Бени Крика: Багси Сигал, Меир Лански и персонажи книги и фильма «Однажды в Америке».
Такая вот загогулина, понимаешь. Песня, из которой слова не выбросишь. В русском языке заимствований, связанных с конкретной исторической эпохой и конкретными соседями, полным-полно. Морская лексика взята у голландцев при Петре. Инженерная – у немцев и американцев в ХХ веке, при последних царях и первых вождях советского народа. Компьютерная – у тех же американцев в постсоветский период. Про тюркские, иранские, кавказские всех видов и прочие заимствования не стоит даже говорить. И что это значит, кроме того что язык не вымерший, как латынь или санскрит, а живой? Да ничего. Вопреки М. Задорнову, которому не в добрый час вздумалось побаловаться, просвещая народ толкованием вопросов языкознания.
Однако «место мокрое, а ребёнка нет», как говорят персы в своём Иране. И читатель, терпеливо сидящий у потока, которым течёт авторская мысль, справедливо ждёт, что ему скажут что-нибудь о левых и правых в Израиле. Ты ещё здесь, читатель? Ты не ушёл за пивом? Или к телевизору, смотреть «Дом-2» и постепенно превращаться в пень с глазами и ушами? Ну молодец. Тогда представь, что ты вернулся лет на сто назад. И перед тобой Гражданская война в России.
«Продармия», Первая конная, оборона Царицына. Будённый, Фрунзе, Троцкий, Щорс. Лазо, горящий в печи паровоза. Наголо бритый Григорий Котовский, с усами под Чарли Чаплина. Блюхер. Пилсудский, Маннергейм, Антанта. Нестор Иванович Махно, Петлюра, Скоропадский. Краснов, Колчак, Юденич. Деникин, Врангель. Мишка Япончик. Погромы. ВЧК. Военный коммунизм. Белый террор. Красный террор. Большевики, меньшевики, анархисты, анархо-синдикалисты, эсеры. На веки вечные гикнувший золотой запас России – большой привет императорской Японии и странам цивилизованного Запада. Мятеж левых эсеров. Кронштадтский мятеж. Заговор Сиднея Рейли. Бои с басмачами. Бои с хунхузами. Ну и хватит, пожалуй.
Что осталось в памяти народной, кроме «сотни юных бойцов», которая «на разведку в поля поскакала», и «шла дивизия вперёд, чтобы с боем взять Приморье, белой армии оплот»? Кроме усов командарма Семёна Михайловича? И фразы «… как Троцкий», адекватно оценивавшей единственное в своём роде ораторское искусство создателя Красной армии, она же РККА? А также фильмов «Неуловимые мстители» и «Белое солнце пустыни»? Правильно, читатель. Красные в памяти остались. И белые. И то, что это была война между ними.
На самом деле война эта была не между ними, а между всеми. Притом что временные попутчики и союзники уничтожались ударом в спину и шельмовались на десятилетия вперёд, как тот же Махно. И свои становились чужими, после чего ни их жизнь, ни жизнь их сторонников не стоила ломаного гроша, как было с Троцким. Чего там только не было наворочено, в борьбе партийных группировок с одной стороны и генералов, атаманов и бесчисленных местных правительств с другой. А по большому счёту осталось в истории одно: белые против красных. Красные против белых. И всё. И вот в Израиле оно тоже так осталось.
Тут надо ввести поправку на то, что евреи друг друга не убивают даже в припадке большой политической неприязни. На войне, если придётся, – да. В гангстерских разборках – сколько угодно. В «бытовухе» меньше. Существенно меньше. Не до такой степени они жестоковыйный народ. Ну, бланш под глаз поставить, расквасить нос или пенсне с этого носа раскрошить ровным слоем по ближайшей поверхности – это да. Или, скажем прямо, не довести арабского террориста до тюрьмы, из которой его всё равно выпустят болтуны-политики, – бывает. Но чтобы сопернику на выборах пулю в лоб, машину на воздух или нож под ребро – это не еврейское. От чего взаимная неприязнь, плавно переходящая в ненависть, меньше не становится.
Рубят карьеры. Подают в суд. Пишут доносы в налоговую. Травят в прессе – благо то, что в Израиле имеется в виде прессы, в огромной мере левое и ультралевое. И если страна не управляется «социально близкими» – то пропади она пропадом, такая страна. Судя по газете «Гаарец» и её читателям, образованным и состоятельным левакам, во всяком случае. Ну и до кучи есть ещё левое лобби в судах и вообще в юридической системе, включая прокуратуру. В университетах – что обеспечивает бесконечное пополнение министерств и ведомств левыми выпускниками кафедр и факультетов общественных наук. И много где ещё. Поскольку правые во власть впервые попали в этой стране ещё в 1977 году, но левый лагерь отделался тогда лёгким испугом, сохранив всё своё влияние и власть даже в отсутствие парламентского большинства. Умеют люди изворачиваться!
Президенты Израиля – левые все. Кроме Моше Кацава и Реувена Ривлина, которого избрали как раз, когда писалась эта книга. Причём Кацава отрешили от власти и посадили. В прямом смысле слова, в тюрьму. По бредовому обвинению одной из его старых подружек в изнасиловании, имевшем место, по её словам, невесть за сколько лет до того, как она о нём вспомнила. И то ли решила бывшего любовника шантажировать, а потом не смогла вовремя остановиться, то ли приспичило ей ему отомстить за что-то, то ли система её придавила и построила по своим правилам и под свои нужды. А Израиль – страна такая. Там хоть президент, хоть министр, хоть премьер-министр, хоть поп-звезда. Сказали в тюрьму, значит, в тюрьму.
Причём для всех, кто знает, как устроена местная бюрократическая машина и что такое нравы местной бюрократии, вопрос об изнасиловании не стоит в принципе и стоять не может. Sexual harrassmen, оно же сексуальное домогательство, – это не израильская реальность. Точнее, как раз израильская, и даже ежедневная и ежечасная, но никто в здравом уме и твердой памяти по такому поводу не был осуждён. Не США. Хотя Израиль и старается походить на них. Фарс? Ну, кому как. Ведь сел человек. Сидит. И вся его вина на самом деле в том, что нечего стороннику правого лагеря становиться израильским президентом, пока есть кому его оттуда сбросить, уничтожить его реноме, изгадить биографию и посадить в узилище. Для острастки прочих. Чего, вообще-то, особенно никто и не скрывал.
Как следствие израильская левизна и правизна – понятия специфические. Экономика и политика, играющие в мире главную роль для соответствующего позиционирования, тут меняются местами. По крайней мере, частично. Поскольку левые за госсобственность, а правые за свободный рынок и частное предпринимательство, как и везде. Но основные левые – это богачи и верхний уровень среднего класса. «Первый Израиль». Прибрежные жители – потомки основателей государства.
Вообще-то это дети и внуки тех, кто скромно жил, работал на износ и воевал за свою страну. Природа на них отдохнула, как могла. Они сидят на шее у государства, заполняя все мыслимые и немыслимые синекуры. Не вылезают из израильского теле– и радиоэфира. Играют в политику или бездельничают, составляя костяк израильских пацифистов и сексуальных меньшинств. В связи с чем уклоняются от службы в армии, травят Израиль из Америки или Европы, требуют его бойкота из солидарности с угнетёнными арабами, видят своими главными союзниками арабских лидеров и готовы заключить с ними любой пакт против собственного государства – лишь бы только оно правым не досталось.
Электорат правых, напротив, – это «Второй» и «Третий Израиль». То есть восточные евреи – рабочие, крестьяне из израильских колхозов-мошавов или мелкие лавочники. И те, кто приехал в страну в 90-х и 2000-х: «русские» и выходцы из развитых государств. В том числе «французы», которых гонит на историческую родину рост на родине «доисторической», во Франции, антисемитизма. Основным источником которого является арабская община этой страны.
Соответственно, главная линия размежевания на левых и правых в Израиле – вопрос о «мирном процессе» и «соглашениях Осло». Левые полагают их не просто гениальным, но единственно верным решением проблемы взаимоотношений с арабскими соседями. О пролетарском интернационализме никто из них уже не вспоминает, но отдавать ради химеры мирного договора с палестинцами они готовы всё – кроме собственной виллы. Хотя складывается такое впечатление, что, если хорошо приплатить, отдадут и её. Мало ли на планете стран, где они готовы жить, помимо Израиля…
Правые разжижением мозгов такого рода не страдают, и наиболее трезвомыслящая их часть уверена, что бобик мирного урегулирования давно сдох и попытка оживить его мёртвую тушку в стиле вуду обречена на провал. Благо за двадцать лет после начала «процесса Осло» в Израиле были убиты террористами полторы тысячи евреев, а за сорок пять лет до того – тысяча. Прогресс налицо. Только кому нужен такой прогресс?
Тем более что нынешнее палестинское руководство давным-давно отказалось даже от попыток делать вид, что оно хочет хоть какого-нибудь урегулирования. И ясно, что хочет оно только денег плюс использовать уникальный идиотизм израильских левых, которые последовательно идут на все его условия. Ну и продолжения банкета, разумеется. В виде поэтапных ударов по Израилю – дипломатических, политических и террористических. В ассортименте. Чем невольно помогает правому лагерю в его противостоянии с левым. И сильно. Поскольку такого бесхитростно откровенного врага ещё поискать.
Правда, израильские правые постепенно учатся на своих ошибках. Нельзя же десятилетиями наступать на одни и те же грабли. В парламенте они завоевали твёрдое и окончательное большинство. Распад социалистической идеологии и социалистической системы ещё можно не замечать из американского Гарварда. Но не обращать на него внимания, живя в Израиле, как-то не получается. Не даёт миллион с лишним репатриантов – олим и ватиков, выходцев из СССР и постсоветских государств, которые составляют значительную часть избирателей этой страны.
Опять-таки пошли подвижки в СМИ. Поскольку удавить конкурентов ветеранам масс-медийного рынка не удалось и бесплатную газету «Исраэль а-Йом» читает куда больше людей, чем левую прессу. Да и в исполнительных органах произошли серьёзные изменения. Хотя тот же МИД, несмотря на присутствие в его рядах на момент, когда пишутся эти строки, министра Либермана и замминистра Элькина, насмерть держится за старые догмы, благодаря которым израильская дипломатия два десятка лет занималась исключительно вопросами отношений с палестинцами. И если бы Шимон Перес мог стать не израильским, а палестинским президентом и сам построить для них государство, не исключено, что оно бы наконец действительно возникло…
Как бы то ни было, борьба левых и правых – или, если угодно, красных и белых – в Израиле никуда не делась. Хотя и приобрела иные формы, чем неприкрытая ненависть Бен-Гуриона к Жаботинскому. Фраза «Старика», которой он объяснял соратникам, почему лучше пойдёт на союз с религиозными ортодоксами, чем с европейски образованными ревизионистами, остаётся актуальной по сей день. «Они хотят быть не рядом с нами, а вместо нас» – резонное обоснование для борьбы, выдержавшей десятилетия. Даже если история похоронила левацкие идеи в большей части стран, исповедовавших их вплоть до самого конца ХХ века.
Вопрос о власти и собственности ещё никто не отменял. Клясться в верности идеалам власти рабочего класса и трудового крестьянства из дорогого столичного пентхауса или виллы на побережье удобно. Притом что так называемые правые идеи защищают в сегодняшнем Израиле как раз те, кто строит своё будущее и будущее своих детей собственным потом и кровью. Они же – национально-патриотический лагерь. Такой вот парадокс. Свойственный, впрочем, не одному Израилю. Ну, тут кто бы сомневался…
Данный текст является ознакомительным фрагментом.
Продолжение на ЛитРесПочему «левые» и «правые» означают либералов и консерваторов?
В годы выборов слова слева и справа чаще напоминают политический спектр, чем направления в пространстве.
Но как вообще либеральная политика стала ассоциироваться со словом , оставив ? И почему консерваторы обозначаются как , а как ?
Вы знаете, как мы всегда предупреждаем вас скептически относиться к историям о происхождении, которые звучат слишком хорошо, чтобы быть правдой? Что ж, история слева и справа в политике оказывается увлекательным исключением.
Что значит осталось ?В политике левых относится к людям и группам, придерживающимся либеральных взглядов. Обычно это означает, что они поддерживают прогрессивные реформы, особенно те, которые стремятся к большему социальному и экономическому равенству.
дальний левый часто используется для более радикальных, революционных взглядов, таких как коммунизм и социализм. В совокупности люди и группы, а также занимаемые ими должности называются , Left или левым флангом .
Что означает справа ?Слово справа , напротив, относится к людям или группам, придерживающимся консервативных взглядов. Обычно это означает, что они настроены на сохранение существующих условий и институтов. Или они хотят восстановить традиционные и ограничить изменения.
Крайний правый часто используется для более радикальных, националистических точек зрения, включая фашизм и некоторые деспотические идеологии. Люди и группы, а также их должности вместе именуются правое или правое крыло .
СМОТРЕТЬ: Как возникла республиканская партия?
Предыдущий Следующий Происхождение левых и правых в политикеПроисхождение политических слева и справа действительно должно быть связано с физическими направлениями, влево и вправо. Время для урока истории.
Слева и справа первоначально относились к местам сидения в Национальном собрании Франции 1789 года, парламенте, сформированном во Франции после Французской революции.
Относительно точки зрения спикера (председателя) этого собрания, справа сидели знать и более высокопоставленные религиозные лидеры. Слева сидели простолюдины и менее влиятельное духовенство. Правая сторона (по-французски le côté droit ) стала ассоциироваться с более реакционными взглядами (больше про-аристократии), а левая часть ( le côté gauche ) с более радикальными взглядами (больше про-средний класс). ).
Left и right , как политические прилагательные, записаны на английском языке в 1790-х годах.
Что значит находиться в центре
?Места для сидения, начиная с Национального собрания Франции 1789 г., ближе к центру также стали ассоциироваться с менее радикальными взглядами.
Центр политика отдает предпочтение умеренным позициям. Людей, придерживающихся таких взглядов, часто называют умеренными . Политические независимых часто попадают в центр политического спектра. Левоцентристский относится к людям, группам или взглядам, которые находятся слева от политического центра в стране. По центру указывает на то, что находится немного правее по центру .
В США люди часто используют слева как сокращение для Демократической партии и справа как сокращение для Республиканской партии. Но имейте в виду, что политика всегда намного сложнее, чем ярлыки, которые мы даем ей – и друг другу. Лучше не позволять всему … перевернуться, не так ли?
Вы знаете, почему демократы и республиканцы ослы и слоны ? После того, как вы это прочтете, вы будете!
Левые и правые радикализируют друг друга
Кумулятивный экстремизм часто имеет место в местах, где оспаривается физическое пространство, например, когда более одного сообщества претендуют на определенный район.В 1960-х и 1970-х годах цикл радикализма в Северной Ирландии ускорился отчасти из-за католических маршей на протестантскую «территорию» и протестантских маршей, оскорбивших католиков. Столкновения привели к насилию, а затем насилие нормализовало насилие. Кумулятивный экстремизм также подпитывался имитацией. Обе стороны копировали тактику друг друга, использование языка и средств массовой информации. Плохая работа полиции также была частью истории, потому что это привело к тому, что многие люди потеряли веру в нейтралитет британского государства.
Эта потеря веры, в свою очередь, привела к большему признанию насилия и, в конечном итоге, к тому же феномену, который наблюдал Итуэлл. Были привлечены люди, мало интересовавшиеся политикой. Число центристов сократилось. В обоих сообществах террористы нашли убежище среди простых рабочих, которые в прошлом никогда не считали себя радикалами.
Дж.М. Бергер: Наше мнение о реальности пошатнулось
В современной Америке не так много физических соревнований за космос.У американцев, за некоторыми исключениями, обычно достаточно земли, чтобы наслаждаться роскошью расстояния от людей, которые нам действительно не нравятся. Есть некоторые исключения: самопровозглашенный член организации Rose City Antifa из Портленда, штат Орегон – он был в маске во время интервью – сказал журналисту прошлым летом, что «когда фашисты приезжают в наши города, чтобы напасть на людей, мы собираемся ставим наши тела между фашистами и людьми, на которых они хотят напасть ». Это мнение вполне могло исходить от Ирландской республиканской армии.Оператор-линчеватель из Айдахо, который читал в Интернете слухи о том, что антифа-группы приезжают в его город, сказал примерно то же самое: «Если вы, ребята, подумываете приехать в Кер-д’Ален, чтобы устроить беспорядки или грабить, вам лучше подумать еще раз. . Потому что у нас его нет в нашем городе ».
Но, как оказалось, символическая борьба может быть столь же поляризующей, как и физическая. Вся тревога в американских университетах по поводу «платформеров», по поводу того, кому разрешено, а кому не разрешено выступать с кафедры, проистекает из очень похожего спора.Банды студентов, которые кричали ораторов или пытались помешать им появляться в своих кампусах, ведут себя ритуально, что было бы знакомо жителям Белфаста. Они разыгрывают уличные драки, которые вспыхивают в других городах, с петициями или кампаниями в социальных сетях, и организованное шипение и освистывание заменяют физические состязания, хотя иногда они также превращаются в физические состязания.
В онлайн-пространстве, а также в эфире трансляции, где происходят американские политические соревнования, Трамп вступил в эти символические битвы, как лидер банды, шагающий по вражеской территории.Подобно преподобному Яну Пейсли, который десятилетиями с радостью играл роль протестантского фанатика Северной Ирландии, Трамп принимает мультипликационную версию правых, которая отталкивает центристов, в том числе правоцентристов, и подталкивает левых к еще большим крайностям. Если вы уже были склонны верить, что американская история – это история угнетения и расовой ненависти, то восхождение на роль главного биртериста, человека, пропагандирующего жестокость по отношению к детям-иммигрантам, только укрепит ваши взгляды. Если вы уже были склонны полагать, что уличное насилие необходимо для воздействия на общественное мнение, то политическое доминирование человека, который кивает и подмигивает ультраправым ополченцам, укрепит ваши убеждения.Как утверждала писательница Кэти Янг, «когда президент Соединенных Штатов представляет собой практически проснувшуюся карикатуру на злого белого мужчину – названного хулигана, который одобряет жестокость полиции, критикует меньшинства и выставляет напоказ свое отсутствие человеческого сочувствия, – это подталкивает большое количество людей. людей все дальше и дальше влево, придавая убедительность проснувшейся идее о том, что Америка – это расистский патриархат ».
Кто радикальнее: левые или правые?
Безумные позиции слева и безумные справа.
Слева – люди, которые верят, что мужчина может забеременеть; что через десятилетие настанет конец света, если мы не ограничим выбросы углерода; что настоящая цель американской революции заключалась в сохранении рабства.
Справа – люди, отрицающие Холокост; которые считают, что белые по своей природе превосходят другие расы; что никто не должен платить налоги.
Но между этими двумя крайностями есть важное различие: у психов справа нет голоса – их избегают.В основном они живут на дальних рубежах Интернета. У сумасшедших слева громкий голос – они прославлены. Они живут в залах Конгресса, в законодательных собраниях штатов и в особняках губернаторов.
В свете этого различия было бы интересно задать себе следующий вопрос: какая группа, левая или правая, более радикальна?
Мы можем прийти к здравому смыслу, поставив этот мысленный эксперимент: как бы выглядела Америка, если бы левые получили все, что хотели, и как бы выглядела Америка, если бы правые получили все, что хотели?
Начнем с левого.
Увеличатся налоги для частных лиц и корпораций, чтобы они могли оплачивать больше социальных программ – от всеобщего ухода за детьми до бесплатного обучения в колледже. Многие слева призывают к подоходному налогу до 70%. Частное медицинское страхование будет отменено; правительство предоставит все медицинские услуги. Все в области медицины – врачи, медсестры и администраторы – будут государственными служащими. Американцы заплатили бы за это государственное здравоохранение за счет гораздо более высоких налогов.
Незаконная иммиграция будет декриминализована.Въезд в страну без надлежащих документов по-прежнему будет незаконным, но ни один, кто въехал в США, не будет привлечен к ответственности за это. Незаконные иммигранты также получат бесплатное медицинское обслуживание, бесплатное образование и бесплатное жилье.
Будет принят «Новый зеленый курс». Сотни миллиардов долларов субсидий на ветряную и солнечную энергию будут добавлены в федеральный бюджет. Бурение на ископаемое топливо, нынешний источник 80% нашей энергии, будет резко сокращено или вообще исключено.То же самое и с ядерной энергетикой. В результате счета за электричество потребителей будут намного выше.
Будет выплачено возмещение за прошлую несправедливость рабства. Как это будет выплачиваться и кому именно – неясно. Легально приобрести ружье стало бы намного сложнее. Задолженность колледжа будет аннулирована. Те, кто уже заплатил за колледж, ничего не получат.
Трансгендерным женщинам – биологическим мужчинам, которые идентифицируют себя как женщины – будет разрешено соревноваться с женщинами в спорте. Военный бюджет Америки сократится на 25-50%.Речевые коды будут применяться на протяжении всей американской жизни.
И это лишь неполный список.
А теперь спросим, что бы произошло, если бы правообладатели получили то, что хотели.
Подоходный налог будет снижен. Налог на прирост капитала будет снижен. Корпоративные налоги будут снижены. И эти сокращения будут постоянными. Все правила, которые излишне затрудняют ведение бизнеса и не защищают здоровье населения, будут отменены. Вопрос об абортах будет отправлен обратно в штаты, чтобы каждый штат определил для себя свои собственные правила абортов.
Будет открыто намного больше чартерных школ, и будет намного легче уволить плохих учителей. Чтобы проголосовать, граждане должны будут предъявить действительное удостоверение личности. Граница с Мексикой будет защищена. Единственный способ попасть в Соединенные Штаты – через специально отведенные пограничные переходы. Чтобы иметь право на получение социальной помощи, вам необходимо доказать, что вы не можете работать.
Система здравоохранения будет открыта для рыночных реформ. Например, страховые компании могут продавать полисы по всему штату.Учащиеся начальной школы произносили клятву верности в начале каждого учебного дня.
Итак, какие выводы мы можем сделать из нашего эксперимента? Несложно догадаться.
Если бы у правых было все, что они хотели, правительство стало бы намного меньше. У гражданина было бы больше свободы.
Если бы левые получили все, что хотели, правительство стало бы намного больше. У гражданина было бы меньше свободы.
Вы не радикал, если хотите, чтобы Америка была такой, какой она всегда была: приверженной личной свободе.Вы радикальны только в том случае, если хотите коренным образом превратить Америку в то, чем она никогда не была.
В какой стране вы хотите жить?
Я Уилл Уитт из Университета Прагера.
Почему левые идут вправо | The New Yorker
Самой большой историей последних пятидесяти лет в американской политике было господство правых, и это история отступничества. На каждом этапе долгого марша консервативного движения к власти решающую помощь оказывали еретики слева.Прогрессисты отшатнулись от Нового курса и стали реакционерами; бывшие коммунисты помогли запустить National Review, в 1950-е годы; выздоравливающие социалисты основали неоконсерватизм в шестидесятых и семидесятых годах; Новые левые радикалы обратились против своих бывших товарищей и бывших я в годы Рейгана. Рональд Рейган, чье президентство довело движение до апогея, сам когда-то был либералом «Нового курса». На протяжении всей жизни преобладают западные политические ветры – они дуют слева направо.Попробуйте подумать об общественных деятелях, которые совершили противоположный путь: на ум приходят Элизабет Уоррен, Гарри Уиллс и Джоан Дидион, а также Кевин Филлипс, разочаровавшийся стратег Никсона; совсем недавно писатель Майкл Линд и возлюбленный Клинтона, ставший ненавистником Дэвид Брок, дезертировали справа налево. Вот и все.
Политические преобразования болезненны, как потеря религии или разлюбление. Иллюстрация Марка ПернисаНаиболее частым объяснением является то, которое по-разному приписывают Черчиллю, Клемансо и Ллойд Джорджу: «Любой мужчина, не являющийся социалистом в возрасте двадцати лет. нет сердца.У любого человека, который в сорок лет все еще остается социалистом, нет головы ». Таким образом, движение вправо является признаком твердой мудрости, которая приходит с возрастом и опытом, или, возможно, бессердечия и бессодержательных мечтаний, которые сопровождают стабильность и успех. Ирвинг Кристол, бывший троцкист, ставший крестным отцом неоконсерватизма, язвительно заметил, что неоконсерватор – это «либерал, которого обманула реальность». Большинство людей едва ли осознают этот сдвиг, пока он не подвергнется воздействию кризиса, такого как крупная политическая перестройка, которая заставляет нас пересекать партийные линии.Даже тогда они хотят верить, что изменилась политика, а не они сами. Мой дед по материнской линии, Джордж Хаддлстон, конгрессмен из Алабамы в первые десятилетия двадцатого века, начал свою карьеру, голосуя вместе с единственным социалистом в Конгрессе, и закончил его ярым противником того, что он считал чрезмерным выходом федерального правительства на Новый курс. В 1935 году на полу дома коллега-демократ высмеял его за то, что он изменил свою позицию в отношении государственной собственности на электроэнергию. В ярости Хаддлстон настаивал: «Мои принципы и я остались неизменными – изменилось определение« либерализма ».Или, как известно (и ложно) Рейган, он не покинул Демократическую партию – Демократическая партия покинула его.
Это все равно, что обвинять супруга в собственной неверности. Политические преобразования – это болезненное дело, с которым так же трудно справиться, как разрушение любви или потеря своей религии. А может сложнее. Религиозная вера, находящаяся за пределами досягаемости разума, не обязана отвечать на важные вопросы о ранее занимаемой должности. К политическому отступнику относится особое презрение – обвинение в интеллектуальном крахе, запах предательства.Когда вы переходите на другую сторону, вам нужно найти новых друзей. Политическая идентичность формируется главным образом факторами, не имеющими ничего общего с рациональным рассуждением: семейным и племенным происхождением, чертами характера, историческими течениями. В книге «Партизанские сердца и умы», опубликованной в 2002 году, трое политологов эмпирически доказали, что политическая принадлежность формируется в раннем взрослом возрасте и редко меняется. Мало кого можно убедить отказаться от своей политики.
В двадцатом веке пустота, оставленная утратой религии, иногда заполнялась тотализирующими политическими системами, и в результате создавался литературный жанр исповедания, столь же могущественный и проницательный, как и августинцы.«Бог, который потерпел неудачу», опубликованный в 1950 году, собрал личные рассказы шести бывших коммунистов и попутчиков, включая Андре Жида, Артура Кестлера, Игнацио Силоне и Ричарда Райта. Каждый из них рассказывал историю о взрослении в мире, раздираемом кризисами, обретении смысла в марксизме, идентичности в партии и вдохновении в Советском Союзе, постепенном разочаровании и окончательном разрыве с коммунизмом. В некоторых случаях это было похоже на наблюдение за смертью бывшего «я». Этим писателям было почти невозможно открыть новую веру, политическую или религиозную, чтобы заменить коммунизм и его способность стереть чувство незначительности, которое ожидает любого разумного человека.
Два года спустя, в 1952 году, вышел «Свидетель» самого измученного бывшего коммуниста века Уиттакера Чемберса. Последовательность биографических очерков Дэниела Оппенгеймера о шести перебежчиках левого крыла «Выход вправо: люди, которые покинули левых и изменили век Америки» (Simon & Schuster) начинается с Чемберса. Это первая книга Оппенгеймера, но он пишет с уверенностью и исторической властью человека, долгое время размышлявшего над его темой. Цвета его собственного флага трудно различить, что делает его надежным проводником.Его симпатия идет к откровенно конфликтующим, откровенно разбитым. Он хочет знать, почему люди придерживаются тех политических убеждений, которые у них есть. Истории отступничества, пишет он, «стоит рассказывать, потому что именно в период политических преобразований, когда кости системы убеждений ломаются и высовываются сквозь кожу, случайность и сложность веры становятся наиболее очевидными». Этот квест особенно актуален в то время, когда американцы глубоко зарыты в две противоположные траншеи, и переход через нейтральную полосу – отличный способ, чтобы их отогнали.
Оппенгеймер так и не ответил на свой главный вопрос: «Право на выход» – это больше история, чем политическая теория и психология. Его мини-биографии дают автору достаточно нити, чтобы сплести большую историю американских левых в двадцатом веке, от Daily Worker до пакта Гитлера-Сталина, от Комитета по антиамериканской деятельности Палаты представителей до «The Fire Next» Время »из Партизанского обозрения по Бастионы , от Вьетнама до 11 сентября. Помимо Чемберса, есть Джеймс Бернхэм, троцкистский философ 1930-х годов, который стал редактором-основателем National Review; Рональд Рейган, который начинал ближе к мейнстриму, чем кто-либо другой; Норман Подгорец, который в шестидесятые годы взял с собой Комментарий сначала влево, а затем вправо; Дэвид Горовиц, сын членов Коммунистической партии и радикальный друг Черных пантер, до тех пор, пока их насилие не заставило его бежать к Рейганизму; и Кристофер Хитченс, который принадлежит к другой категории, никогда не был ортодоксальным левым и никогда действительно не подходил к новым консервативным друзьям своего последнего десятилетия.
Среди шести персонажей нет повторяющегося типа, только лихорадочный порыв к самовосстановлению, который отражен в строчке из пьесы Клиффорда Одетса «Потерянный рай»: «Мы отменяем наш опыт. Это американская привычка ». Но каждая история предательства раскрывает личный нрав, который делает этих людей страстно враждебными по отношению к политике плюрализма. Они принимают новые истины с рвением и уверенностью новообращенного – «случайность и сложность веры» Оппенгеймера не для них. Больше всего они ненавидят либерализм.
Рассказ Чемберса – это рассказ Достоевского о страданиях и высокой драме. «Жизнь – это боль», – писал он своим детям в письме, предваряющем «Свидетель», и «каждый из нас всегда висит на кресте самого себя». Для Чемберса политика была религиозной, непрерывной борьбой между добром и злом, и единственной формой политической приверженности была абсолютная. Его история уже дважды была очень хорошо рассказана – сначала в болезненной экзальтации «Свидетеля», а затем в авторитетной биографии Сэма Таненхауса за 1997 год, которые являются важными источниками для Оппенгеймера.Чемберс родился в 1901 году и вырос на Лонг-Айленде в семье среднего класса, хаос и упадок которой дали мальчику намек на более широкую болезнь современного мира. Его отец, полузакрытый гомосексуал, был жесток с Уиттакером; его мать была любящей, но глубоко невротичной женщиной; его брат был будущим самоубийцей. Дом Чемберсов пришел в упадок вместе с зубами Уиттакера. Оппенгеймер уделяет много места ранним годам Чемберса, потому что они объясняют его бегство в объятия Коммунистической партии в 1925 году.«Это дало мне то, что ничто другое в умирающем мире не могло предложить с такой же интенсивностью», – писал он в «Свидетеле», – «веру и видение, то, ради чего нужно жить, и то, ради чего умереть».
«Поговорим о Византии – попробуй получить разрешение на опору в этом районе».В 1932 году Чемберс стал агентом коммунистического подполья, и в течение нескольких лет он служил курьером между ячейкой чиновников в администрации Рузвельта и их грубым, жестоким советским куратором Борисом Быковым, который мог происходить из Кестлера. «Тьма в полдень.Передавая Советскому Союзу правительственные секреты на микрофильмах, Чемберс, женатый и отец, смог потакать своему влечению к мужчинам. Крейсерский поход следовал тем же образцам, что и шпионаж: «Большая часть его работы заключалась в том, чтобы двигаться в тени, обмениваться многозначительными взглядами с незнакомцами, совершать полуночные прогулки, перемежающиеся с интервалами целенаправленного бродяжничества».
Не было единственной причины, по которой Чемберс перестал быть коммунистом. В «Свидетеле» он говорит, что перерыв начался, когда его дочь ела кашу на своем высоком стульчике, и он пришел к выводу, что она – и, в частности, ее ухо – были созданы по некоторому замыслу.Но он оставался в партии на долгие годы после того, как почувствовал палец Божий на своем лбу. Примерно в 1936 году новости о судебных процессах над ведущими большевиками в Москве начали доходить до тех, кто в Америке был готов их услышать, и Чемберс не закрыл глаза на ужасную правду. (Миллионы людей погибли в результате того, что впоследствии стало называться Большим террором.) Кроме того, были «накопленные скучные годы подпольной работы, и как мало было того, что можно было показать», – пишет Оппенгеймер. «Там были убого антиобщественные образцы подземной жизни, все беспорядки, секретность и ложь.Однако в «Свидетеле» Чемберс описывает свой разум в самых простых выражениях: «Это зло, абсолютное зло. Я являюсь частью этого зла ».
Метафизическое напряжение – это то, что отличает Чемберса от большинства миллионов других коммунистов, которые зря потратили свои годы и развратились, прежде чем потерять свою веру, и что делает «Свидетеля» преемником «Исповеди» Августина и «Прогресс паломника» Буньяна. ” В автобиографии мало что говорится о диалектическом материализме, социальном фашизме или Народном фронте.После прочтения «Свидетеля» критик Гарольд Розенберг сказал: «Этот человек не интересуется политикой». Когда Чемберс сообщил своему другу Алджеру Хиссу, сотруднику Госдепартамента и соратнику-шпиону, что он собирается уйти, он попытался убедить его тоже уйти. Но Хисс был бюрократом, а не душой в аду, и он отмахнулся от Чемберса: «То, что вы говорили, – всего лишь умственная мастурбация».
Разрыв Чемберса с партией поставил под угрозу его жизнь и жизнь его семьи и ввергнул его в неизбежный духовный кризис.Он не мог жить без цели. Он начал молиться Существу, создавшему ухо его дочери; он стал христианином. «В Боге, – пишет Оппенгеймер, – он нашел новое видение, которое казалось достаточно глубоким, чтобы поддерживать его эмоционально, и достаточно богатым, в своей объяснительной силе, чтобы дать ответы на вопросы о современной жизни, которые все еще преследовали его». Оппенгеймер оставляет историю там. Он не описывает последующую карьеру Чемберса как звездного писателя Генри Люса в Time или его внезапную известность (и позор), когда в 1948 году представитель Ричард Никсон поставил его под свет и вызвал его показания против Хисса (который все отрицал, затем и на всю оставшуюся жизнь).Противостояние Хисс-Чемберса в Конгрессе и суде разделили американцев; в каком-то смысле это была первая битва в культурных войнах последних полувека. Возможно, Оппенгеймер чувствовал, что эта развязка была уже знакомой или излишней для его главной заботы.
Но Чемберс стал не просто антикоммунистом. Заменив Сталина Богом, он направил свой меч на то, что он назвал «второй по возрасту верой человека». Он продолжил: «Его обещание было прошептано в первые дни творения под Древом познания добра и зла:« Вы будете как боги.«Это великая альтернативная вера человечества». Чемберс был манихеем, и для него дело Хисса было конфликтом между Богом и Человеком без Бога. Врагом был не просто коммунизм – это были «те, кто верит в примат светского человека». Вот почему, став еретиком в 1938 году, Чемберс не обратился к либерализму Нового курса. Разочарование в либеральных ценностях скептицизма, терпимости и разума привело его к коммунизму в 1925 году, и такое же отвращение сделало его первосвященником правых религиозных групп.Хуже всего было запутаться. Старый друг сказал Чемберсу в конце своей жизни: «Ты никогда не менялся, Уит, ты просто перешел на другую сторону».
Еретики Оппенгеймера вовсе не консерваторы в духе Эдмунда Берка или Рассела Кирка. Постепенный прогресс – это недостаточно крепкий напиток – им нужны вечные схватки, бинарный апокалипсис. Наряду с их пренебрежением к либерализму существует тенденция восхищаться суровыми людьми истории. Вы чувствуете это в истории Джеймса Бернхэма, который прошел через ад тридцатых годов невредимым, потому что, в отличие от Чемберса, он жил интеллектуально, а не духовно.Чемберс заменил одну ревностную веру другой; Бернхэм – почти забытая фигура, доминировавшая на сцене при жизни – продолжал менять системы. Он был состоятельным уроженцем Чикаго, блестящим студентом Принстона и Оксфорда, а затем профессором философии в Нью-Йоркском университете. Он стал марксистом после краха 1929 года, когда он познакомился со своим коллегой по департаменту Сидни Хук и прочитал «Историю русской революции» Троцкого. Поездка летом 1933 года по городам Среднего Запада, пострадавшим от депрессии, скрепила сделку.
Американские троцкисты возглавили пару промышленных забастовок, но их основные действия были на бумаге и на собраниях – очерки и ответные выступления в Новый Интернационал , фракционные бои, споры по поводу правильного определения Советского Союза (дегенерировавшее рабочее государство? бюрократический коллективизм?). Когда к концу тридцатых годов знаменитые товарищи, такие как Крюк и писатель Макс Истман, начали отворачиваться от революционного марксизма к «старомодному доброму либерализму и буржуазному морализму», Бёрнем принялся демонтировать их усилия со всей силой своего систематический интеллект.Его презрение было тем более резким, что он тоже начинал сомневаться в истинности марксистской диалектики. «Я давно перестал спорить о религии», – сказал он своему товарищу, и когда очередь вернулась к Троцкому в его мексиканском изгнании, двое мужчин обменялись серией все более яростных эссе и писем, которые не могли скрыть личную боль.
В апреле 1940 года Бернхэм помог сформировать отколовшуюся партию разочаровавшихся троцкистов, а затем немедленно покинул ее. «В той степени, в которой он все еще разделял какие-либо твердые убеждения с новой партией, они были почти исключительно отрицательными», – пишет Оппенгеймер.«Советский Союз больше не был рабочим государством. Мировая война была империалистической войной, в которой участвовали все стороны в погоне за прибылью и территориями. Эпоха буржуазного либерализма закончилась ». Но Бёрнем никогда не отказывался от своих буржуазных атрибутов – друзей из Принстона, комфортной семейной жизни, положения в Нью-Йоркском университете. «С другой стороны, у Бернхэма была видимая и правдоподобная жизнь», – пишет Оппенгеймер.
Оппенгеймер тоже уезжает из Бернхема слишком рано, в конце его марксистских лет – не успев убить Троцкого в августе 1940 года ледорубом Сталина.Мы не узнаем о книгах и идеях, благодаря которым Бернхэм стал самым известным: «Революция менеджеров», опубликованная в 1941 году, которая провозгласила подъем новых тоталитарных сверхдержав, ни капиталистических, ни социалистических, но коллективистских, контролируемых кастой «менеджеров». »; «Борьба за мир», послевоенный трактат, который предсказывал и косвенно призывал к третьей мировой войне; и «Самоубийство Запада», опубликованное в 1964 году. «Либерализм, – заявил Бёрнхэм, имея в виду веру в разум, – является идеологией западного самоубийства.Его предсказания, неизменно ошибочные, всегда выполнялись одним и тем же: демократия была обречена, и заслуженно, потому что она была слишком мягкой.
«Используй свой внутренний крик».В 1983 году президент Рейган наградил Бернхэма, который к тому времени был болен и в последние годы его жизни был медалью свободы. В 1984 году Чемберс получил его посмертно. Рейган утверждал, что оба человека оказали наибольшее влияние – он читал и перечитывал «Свидетеля» до тех пор, пока, как отмечает Оппенгеймер, «его каденции не были ему присущи, он запоминал целые отрывки, цитировал и подробно их перефразировал в политических речах», – но их пессимизм был неудобным рядом с ним. его солнечная вера в провиденциальное американское будущее.Оппенгеймер рассказывает знакомую историю юношеской страсти Рейгана к Рузвельту; его карьера лидера профсоюзов в Голливуде; его растущая враждебность к коммунистическому проникновению в профсоюзы; и его поворот вправо, когда он стал торговым представителем General Electric, начал общаться с антикоммунистами и женился на Нэнси Дэвис. Рейган приписывал свое отступничество «новомодным« либералам », которые отвергли веру Рузвельта в мудрость американского народа и вместо этого доверили власть правительственным инженерам.Это сентиментальный и антиисторический взгляд. Рузвельт позволил коммунистам, подобным Хиссу, продолжать работать на него даже после того, как ему представили отчет Чемберса об их вероломстве, и он был более государственником, чем «новомодные» демократы эпохи Эйзенхауэра.
когнитивное исследование показывает, что люди слева и справа больше похожи, чем они думают
Это эпоха партийности. По мере того, как наши убеждения становятся все более поляризованными, а цифровые эхо-камеры начинают диктовать наши реалии, многие из нас оказываются непреднамеренными сторонниками.В это время пузырей фильтров нас учили полагаться на политическое различие между левыми и правыми как на важный инструмент для измерения того, кто, вероятно, будет думать так же, как мы, и с кем мы должны быть связаны.
Но пристрастие – это не только вопрос направления , то есть того, склоняются ли чьи-то убеждения и идентичность политически влево или вправо. У пристрастия также есть второе, часто упускаемое из виду, измерение, охватываемое интенсивностью или крайностью убеждений и идентичности.
Например, один человек может склоняться влево в своих политических взглядах и твердо и догматично придерживаться этих убеждений, а другой может быть политически правым, но чувствовать лишь слабую привязанность к консервативным партиям и быть восприимчивым к альтернативным точкам зрения.Когда мы говорим о политической партийности, ярлыки «левый» и «правый» недостаточны: мы должны учитывать как партийную направленность, так и крайность.
Партизанский мозг
Американский мыслитель Эрик Хоффер считал, что мы можем глубже понять историю, психологию и политику человечества, исследуя, как люди приходят к крайней идеологической идентичности.
В своей знаменитой книге «Истинно верующий» (1951) Хоффер утверждал, что крайние приверженцы идеологии или политической партии, как правило, обладают особым психологическим характером, который делает их восприимчивыми к присоединению к любой идеологической группе, независимо от конкретных убеждений, которые они отстаивают.Он написал:
Все движения, какими бы разными они ни были по доктрине и устремлениям, черпают своих первых приверженцев из одних и тех же типов человечества; все они обращаются к одному и тому же типу ума.
Каковы характеристики «типа ума», который наиболее восприимчив к крайним и догматическим представлениям? Хоффер выдвинул гипотезу, что низкая самооценка и чувство личного разочарования являются ключевыми составляющими идеологической крайности. Мои коллеги и я из Кембриджского университета решили использовать другой, более современный подход к ответу на этот вопрос, используя инструменты когнитивной науки.
Мы решили исследовать психологию «идеологического разума» и выдвинули гипотезу о том, что пристрастная жесткость и крайность могут проистекать из общей психологической тенденции жестко и негибко обрабатывать информацию.
Согласно нейропсихологической литературе, когнитивно негибкий человек склонен воспринимать объекты и стимулы в черно-белых тонах, и это затрудняет им переключение между способами мышления или адаптацию к изменяющейся среде.
Мы рассудили, что люди со склонностью к когнитивной ригидности в том, как они воспринимают мир и реагируют на него, в целом могут быть более жесткими и догматичными в отношении своих политических убеждений и идентичности.
В недавно опубликованном исследовании мы пригласили 750 граждан США пройти несколько объективных нейропсихологических тестов, которые позволяют нам измерить их индивидуальный уровень когнитивной ригидности и гибкости. Мы обнаружили, что люди, чрезвычайно привязанные к Демократической или Республиканской партиям, демонстрируют большую психологическую ригидность в этих когнитивных тестах по сравнению с теми, кто привязан только к умеренно или слабо.Независимо от направленности и содержания их политических убеждений, крайние партизаны обладали схожим когнитивным профилем.
Это говорит о том, что партийная крайность имеет психологическое значение – интенсивность, с которой мы привязываемся к политическим доктринам, может отражать и формировать то, как работает наш разум, даже на базовых уровнях восприятия и познания. Примечательно, что эти результаты остались бы скрытыми, если бы мы только рассмотрели, были ли участники политически левыми или правыми.
Гибкость обучения
Эти результаты вызывают множество вопросов о взаимосвязи между нашим разумом и нашей политикой. Первый – это вопрос причинности: приводит ли связь с крайней идеологией к психической ригидности? Или когнитивная негибкость способствует склонности к идеологическому экстремизму? Ответ, вероятно, будет – как и в случае с наиболее сложными явлениями – во взаимодействии обоих. С научной точки зрения нам потребуются лонгитюдные исследования, которые отслеживают людей в течение длительных периодов времени, чтобы определить причину и следствие.
Протестующие за и против Брексита демонстрируют свои цвета перед парламентом Великобритании. EPAМы также можем подумать, могут ли эти открытия помочь нам противостоять некоторым негативным аспектам жизни в партизанскую эпоху. Одним из отличительных свойств когнитивной гибкости является то, что она сама по себе податлива. Исследования показали, что образование и обучение могут помочь развить и усилить нашу умственную гибкость, тем самым улучшая нашу способность переключаться между разными стилями мышления и адаптировать наше поведение перед лицом изменений и неопределенности.Может ли повышение нашей гибкости помочь нам построить более терпимое и менее догматичное общество?
Хотя консерватизм или либерализм наших убеждений может временами разделять нас, наша способность думать о мире гибко и адаптивно может нас объединить. Крайность в любом направлении может привести к тому, что мы увидим мир в черно-белом цвете и забудем оценить решающие оттенки серого между ними.
Тем не менее, часто именно в этих промежуточных серых тонах мы можем найти творческие, конструктивные решения социальных проблем и не забыть поставить нашу общую человечность выше абстрактных идеалов.Не пора ли эпохе пластичности заменить эпоху партийности? Только если мы научимся осознавать, что, несмотря на различия, лежащие снаружи, мы больше похожи, чем мы думаем внутри.
Мнение | Что случилось с политическим центром притяжения Америки?
Республиканская партия склоняется гораздо дальше вправо, чем большинство традиционных консервативных партий в Западной Европе и Канаде, согласно анализу их предвыборных манифестов.Это более радикально, чем Партия независимости Великобритании и Национальное объединение Франции (ранее Национальный фронт), которые некоторые считают крайне правыми популистскими партиями. Демократическая партия, напротив, расположена ближе к основным либеральным партиям.
Примечание. Круги, размер которых определяется процентом голосов, полученных партией на последних выборах, в этих данных. Показаны только партии, набравшие более 1 процента голосов и все еще существующие.Мы проанализировали партии в некоторых странах Западной Европы, Канаде и США.
Эти выводы основаны на данных проекта Manifesto Project, который рассматривает и классифицирует каждую строку партийных манифестов, документов, излагающих цели и политические идеи группы. Мы использовали темы, которые подчеркивают платформы, такие как регулирование рынка и мультикультурализм, чтобы поставить их в общий масштаб.
Итоговые оценки отражают то, как группы представляют себя, не обязательно их фактическую политику.Это один из способов ответить на трудный вопрос: если бы мы могли поместить все политические партии в один континуум слева направо, где бы американские партии упали?
Согласно ее манифесту от 2016 года, Республиканская партия находится далеко от Консервативной партии в Великобритании и Христианско-демократического союза в Германии – основных правых партий – и ближе к крайне правым партиям, таким как Альтернатива для Германии, чья платформа содержит явно ксенофобские настроения. антимусульманские высказывания.
Республиканская платформа не включает в себя такую же фанатичную политику, и ее оценка сдвинута вправо из-за упора на традиционную мораль и «национальный образ жизни». Тем не менее, партия разделяет «нативистский популизм рабочего класса» с европейскими ультраправыми, сказал Томас Гревен, политолог из Свободного университета Берлина, изучавший правый популизм. По его словам, эти партии позиционируют себя как защитники «традиционных» людей от глобализации и иммиграции.
Республиканская партия против других правых партий
Изменено название на расстояние
от ссылок на расизм.
Хочет запретить ношение
паранджи в общественных местах.
Обязан “Western
”Христианская культура ».
Имеет белые корни
национализм.
Предлагается
тюрьмы только для мусульман.
Галстуки с крайне правым
экстремистская группа.
В кампании против
противодействие изменению климата.
Не принимает
«полиэтническое общество».
Хочет выключить
мечети.
1. Партия независимости Великобритании (Великобритания), 2. Национальное собрание (Франция), 3. Партия свободы (Австрия), 4. Шведские демократы (Швеция), 5. Партия финнов (Финляндия), 6. Альтернатива для Германии (Германия) , 7.Датская народная партия (Дания), 8. Швейцарская народная партия (Швейцария), 9. Партия свободы (Нидерланды)
Имеет корни в белом национализме.
Привержен «западной христианской культуре».
Изменено название для удаления ссылок на расизм.
Хочет запретить ношение паранджи в общественных местах.
Предлагаемые тюрьмы только для мусульман.
Кампания против действий по борьбе с изменением климата.
Хочет закрыть мечети.
Связь с ультраправой экстремистской группировкой.
Не приемлет «полиэтническое общество».
1. Партия независимости Великобритании (Великобритания), 2. Национальное собрание (Франция), 3. Партия свободы (Австрия), 4. Шведские демократы (Швеция), 5. Партия финнов (Финляндия), 6. Альтернатива для Германии (Германия) , 7. Датская народная партия (Дания), 8. Швейцарская народная партия (Швейцария), 9. Партия свободы (Нидерланды)
Имеет корни в белом национализме.
Привержен «западной христианской культуре».
Изменено название для удаления ссылок на расизм.
Хочет запретить ношение паранджи в общественных местах.
Предлагаемые тюрьмы только для мусульман.
Не приемлет «полиэтническое общество».
Кампания против действий по борьбе с изменением климата.
Хочет закрыть мечети.
1. Партия независимости Великобритании (Великобритания), 2.Национальное собрание (Франция), 3. Шведские демократы (Швеция), 4. Партия финнов (Финляндия), 5. Альтернатива для Германии (Германия), 6. Датская народная партия (Дания), 7. Швейцарская народная партия (Швейцария), 8 Партия за свободу (Нидерланды)
Разница в том, что в Европе крайне правые популистские партии часто являются альтернативой мейнстриму. В Соединенных Штатах Республиканская партия – это мейнстрим.
«В этом трагедия американской двухпартийной системы», – сказал г.- сказал Гревен. В многопартийном правительстве белые популисты из рабочего класса могли быть переведены в меньшую фракцию, а республиканцы могли остаться консервативной партией «большой палатки». Вместо этого Республиканская партия позволила доминировать своим более крайним элементам. «Нигде в Европе нет такого явления», – сказал он.
Ситуация возникла до прихода к власти, сказал г-н Гревен. Хотя мы могли анализировать республиканские манифесты только на выборах 2016 года, с тех пор президент Трамп открыто выразил одобрение таким политикам, как Марин Ле Пен, ультраправый лидер Национального собрания Франции, которой недавно было приказано предстать перед судом за размещение фотографий в Твиттере. убийств, совершенных Исламским государством.
Согласно оценкам их манифестов, демократы ближе к основным левым и левоцентристским партиям в других странах, таким как Социал-демократическая партия в Германии и Лейбористская партия Великобритании.
А политический центр притяжения США находится справа от других стран, отчасти из-за отсутствия серьезной левой партии. Между 2000 и 2012 годами манифесты Демократической партии находились справа от срединной партийной платформы.Партия ушла влево, но по-прежнему намного ближе к центру, чем республиканцы.
В 2012 и 2016 годах манифест Демократической партии сдвинулся влево, сделав больший упор на трудовые группы, равенство и рыночное регулирование.
В 2008 году в манифестах демократов и республиканцев подчеркивались многие из тех же тем, включая международное сотрудничество и необходимость сильного, стабильного правительства.
В 2012 и 2016 годах манифест Демократической партии сдвинулся влево, сделав больший упор на трудовые группы, равенство и рыночное регулирование.
В 2008 году в манифестах демократов и республиканцев подчеркивались многие из тех же тем, включая международное сотрудничество и необходимость сильного, стабильного правительства.
В 2012 и 2016 годах манифест Демократической партии сдвинулся влево, сделав больший упор на трудовые группы, равенство и рыночное регулирование.
В 2008 году в манифестах демократов и республиканцев подчеркивались многие из тех же тем, включая международное сотрудничество и необходимость сильного, стабильного правительства.
Чтобы подсчитать эти баллы, мы использовали статистический метод, называемый анализом соответствия, анализируя, как часто партийные платформы упоминают каждую тему, закодированную проектом Manifesto Project. Каждое упоминание определенной категории сдвигает счет партии влево или вправо.
Чтобы увидеть, как это работает, вот часть республиканской платформы, которая превозносит свободное предпринимательство и традиционную мораль:
Выдержка из Платформы Республиканской партии 2016 года
Толкает счет влево, толкает счет вправо
Левый и правый примерно соответствуют сегодняшним представлениям о прогрессивном и консервативном, хотя новые проблемы, такие как изменение климата, не всегда четко помещаются в эти ведра, а значение левого и правого может меняться от страны к стране.В нашем исследовании категории, которые больше всего повлияли на оценку левых и правых, были как экономическими, как марксистский анализ, так и социальными, как ссылки на «национальный образ жизни».
Категории, повышающие популярность манифеста…
Кейнсианское управление спросом
Традиционная мораль (-)
Народный образ жизни (-)
(-) соответствует отрицательной ссылке
Категории, которые подталкивают
Самый дальний счет манифеста…
Кейнсианский спрос
менеджмент
Традиционная мораль (-)
Национальный образ жизни (-)
(-) соответствует отрицательной ссылке
Позиция Республиканской партии среди европейских ультраправых особенно поразительна из-за двухпартийной системы США, которая оставляет меньше места для маргинальных групп.В результате партии «вынуждены вести себя банально, обычно борясь за центр», – сказал Ричард Бенсел, профессор политологии из Корнелла.
Но, добавил он, «в последнее время в американской политике происходит нечто очень странное»: теория утверждает, что двухпартийные системы порождают «умеренные, беспринципные партии», но республиканцы и демократы стали более отчетливыми.
«Демократия не работает с такой поляризацией», – сказал он.
Сахил Чиной – графический редактор для раздела «Мнения New York Times».
Почему у некоторых людей возникают проблемы с различением левого и правого: женщина делает татуировки
Различие между левым и правым может показаться таким же естественным, как понимание того, что верх от нижнего. Но для значительной части населения это не так просто.
Лорен Винцер, татуировщик из Сиднея, Австралия, недавно опубликовала фотографию клиента, которая попросила, чтобы на ее руках были постоянно нанесены буквы «L» и «R», чтобы помочь ей ориентироваться в мире.
Татуировки «L» и «R» на руках женщины призваны помочь ей отличить левую от правой. Laurenwinzer / Instagram«У меня были сотни, включая меня и друзей, которые говорили о получении (похожих татуировок)», – Винцер сказал СЕГОДНЯ.
«Татуировки не только милые, но и супер функциональные !!!» она написала на своей странице в Instagram.
Клиент Винзера не ответил на запрос СЕГОДНЯ о комментарии, но она сказала Daily Mail Australia, что ей всегда было трудно различать левое и правое, до такой степени, что друг однажды нарисовал знак « L »и« R »на руках.Вот тогда и родилась идея чего-то более постоянного.
«Это началось как шутка, но на самом деле это очень полезно», – сказал газете Д’Кодиа Лейн, 23-летний студент из Канберры, после того, как сделал себе татуировки.
Согласно исследованию, опубликованному прошлой осенью в Ежеквартальном журнале экспериментальной психологии, почти 15% населения сообщили, что у них проблемы с распознаванием левого и правого.
Предыдущее исследование показало, что это четверть студентов колледжей и треть взрослого населения.Одно раннее исследование пришло к выводу, что путаница между правыми и левыми «часто встречается у взрослых, даже с развитым интеллектом». По данным другого исследования, женщины оказываются более восприимчивыми к нему, чем мужчины.
Связанные
Это может показаться незначительным раздражением, заставляющее кого-то свернуть не туда, услышав указания или подняв не ту ногу в классе йоги.
Но путаница справа и слева может иметь разрушительные последствия, если пострадавший – врач, который может перепутать, какое легкое, почка, глаз, конечность или сторона пациента оперировать.
По оценкам, операция на неправильном месте – операция на неправильном органе – происходит 40 раз в неделю в больницах и клиниках США
Отчасти это происходит из-за неправильного восприятия – когда хирург или персонал путают левую и правую стороны или – сказал доктор Джон Кларк, почетный профессор отделения хирургии Университета Дрекселя в Филадельфии, изучающий медицинские ошибки, спереди и сзади пациента, несмотря на наличие верной информации.
При путанице справа и слева люди «не могут сразу отличить правое от левого, не задумываясь сначала об этом», – сказал Кларк в интервью журналу «Амбулаторная хирургия».Это означает, что если бы он сказал группе людей: «Поднимите правую руку», часть из них могла бы поднять левую руку, или им пришлось бы немного подумать об этом.
Почему здоровым людям сложно отличить лево от правого?
По крайней мере, два процесса имеют решающее значение для этой, казалось бы, простой задачи: перцепционный / пространственный процесс – выбор какой-то стороны, а не середины; и процесс маркировки – прикрепление «правильного» слова к «правильной» стороне, – сказал Марко Андре Хирнштейн, профессор кафедры биологической и медицинской психологии Бергенского университета в Норвегии, изучающий это явление.
«Это процесс маркировки, когда что-то обычно идет не так», – отметил он.
«Почему мы меньше боремся с другими ярлыками ориентации, такими как« вверх-вниз »или« вперед-назад »? Что ж, у всех этих ярлыков есть абсолютные физические особенности, которые делают их более различимыми: «Вниз» – это место, где все падает. «Вверх» – это то, откуда все падает. «Фронт» – это то, чего мне легче достичь », – сказал Хирнштейн СЕГОДНЯ.
«Но у« левой »и« правой »нет такой абсолютной, физической характеристики».
Люди пытаются упростить задачу, помня, что правая рука – это та, которой они пишут, или левая рука – это то место, где они пишут. носите их наручные часы или часы, которые позволяют им образовывать букву «L» большим и указательным пальцами.
Но как только вы вычислите ваши слева и справа, вам нужно понять, что это не обязательно слева и справа от другого человека, добавил он.
Чтобы проиллюстрировать задачу, Хирнштейн рекомендовал мысленный эксперимент Криса Макмануса, автора книги «Правая рука, левая рука»: Представьте, что вам нужно сказать марсианину, что такое левый или правый, но вы подключены только через громкоговорители. Как ты делаешь это? Наручные часы, рукописный ввод и трюк с большим пальцем не работают, потому что у марсианина их нет.«Это сложно, – сказал Хирнштейн.